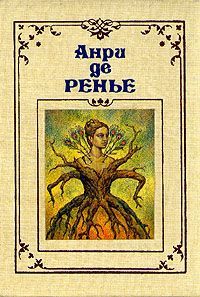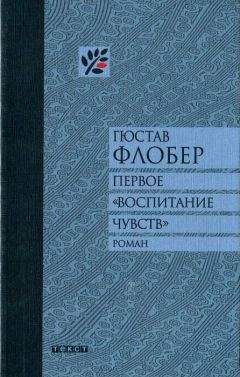И я была права, поступая таким образом. Лучший проводник по Парижу – сам Париж. Сколько у него заготовлено сюрпризов! Сколько он показывает нам удивительных вещей, которые я уже страстно полюбила! Его чудные набережные, его торжественные Елисейские Поля, его Люксембург, его Вандомская площадь и Монмартр! Я поднялась на него в одно свежее и ясное утро. Это была одна из первых моих прогулок. Оттуда весь Париж мне открылся: неопределенный, таинственный, огромный, четкий. Так вот он, этот Париж, где я буду наконец жить, который свободно предоставит мне все свои радости, большие и малые! Ах, Жером, – подумайте только! – иметь возможность смотреть, когда только захочешь, на улыбку Джоконды или на шикарных манекенов с улицы Мира!
Как ни хорош, ни соблазнителен показался мне Монмартр, жить я буду не там. Я не богема, не артистка, я средняя, приличная дама, которой нужно спокойное и удобное помещенье. Может быть, я поищу в хороших старых кварталах на левом берегу Сены. В настоящую минуту я ничего еще не решила. Я еще целиком увлечена образом жизни, который я Вам описываю. В нем много прелести, но скоро я "остепенюсь" и буду вести себя как особа, полная собственного достоинства и заботящаяся об уважении к себе. Я постараюсь не говорить о том, о чем рассказываю Вам, нескольким старым дамам, с которыми я знакома и которых нужно заставить принять меня в новом моем положении. Вот почему через некоторое время я решусь прекратить свое бродяжничество и посвящать несколько часов в день необходимым визитам. Признаюсь, что до сих пор у меня не хватало храбрости принудить себя к этим формальностям. Я была слишком влюблена в Париж, чтобы регулировать свое соединение с ним. Однако первый шаг в этом отношении я сделала третьего дня и навестила в святой Доротее почтенную свою тетушку де Брежэн. Подвиг этот я совершила не без некоторых предварительных предосторожностей. Прежде всего я своему визиту предпослала письмо, очень почтительное, достаточно подробное, очень скромное и, по-моему, довольно хорошо написанное. В нем я изложила тетушке без обиняков и без самохвальства важное событие, имевшее место в моем существовании. Я воспроизвела обстоятельства этого события правдиво, но с известною сдержанностью и со всяческой благопристойностью. В конце я осторожно дала понять, что для появления в приемной я жду изъявления желания меня видеть. Прежде всего мне было важно появиться там не в качестве непрошеной гостьи или виноватой.
Я еще и теперь не могу удержаться от смеха при мысли, какой переполох должно было произвести мое письмо среди превосходных матерей святой Доротеи. Предметом каких обсуждений, каких споров послужило мое письмо! Представьте себе, мой бедный друг, ведь для славных этих женщин я, в сущности, паршивая овца, несчастная, сбившаяся с пути, потерянная душа. Как! бывшая воспитанница монастыря святой Доротеи теперь разведенная жена! Не ужасно ли? Какой скандал! Сколько раз при известии об этом семейном позоре бедная тетушка должна была воздевать очи к небу поверх своих очков! Не она ли, содействовав принятию меня воспитанницей в святую Доротею, наложила печать бесчестия на общину? Хорошие, наверное, были совещания насчет линии поведения по отношению ко мне! Не скрою от Вас, что ответ на мое письмо заставил себя немного подождать. Однако он пришел. Он был образцом благоразумия и недоговоренности. Естественно, что о главном вопросе в нем не упоминалось. Тем не менее, после бесконечных предисловий и множества общих рассуждений, я была приглашена навестить свою тетушку в приемной. Для этой поездки я сделала себе туалет, который был верхом хорошего вкуса. Что-то среднее между вдовой и молодой девушкой с еле заметным оттенком дамы среднего возраста. Для этого случая вместо простого извозчика я наняла карету в одну лошадь. В назначенный час скромный и удобный экипаж этот остановился у ворот монастыря святой Доротеи. Я постаралась поставить ступню на подножку с благоразумной медлительностью, так как за мной наблюдала сестра привратница, которая с любопытством на меня взирала и с которой скромно я поздоровалась по обычаю. Потом я степенно перешла мощеный монастырский двор. В передней я получила пропуск. Оттуда меня провели в большую приемную. В ней было пусто, и, признаюсь, я была этому очень рада, так как не без волнения снова увидела серую деревянную обшивку и кресла, обитые зеленым репсом, что стоят в этой большой комнате. К воспоминаниям прошлого, дорогой Жером, присоединилась мелькнувшая мысль о Вас. Ведь здесь Вы удостоили меня впервые своим вниманием! Но у меня не было времени задерживаться на нежных чувствах. В отдаленных шагах по вощеному паркету я узнала медленную походку тетушки своей де Брежэн, в иночестве сестры Вероники. Я поднялась и пошла ей навстречу. Минута была рискованная, и нужно было приблизиться к тетушке не слишком поспешно, не слишком медленно. Мать Вероника чувствительна к мелочам и, будучи ума тонкого и ограниченного, из всего делает бесконечные выводы.
Несмотря на мою предупредительность, прием, как я и ожидала, был, скорее, холодным. Я не упрекаю в этом бедную тетушку. Наверное, она получила наставления по этому поводу и была слишком послушной инокиней, чтобы им не следовать. Ее сдержанность по приказу была вполне объяснима. В сущности, повторяю Вам, я составляла позор для обители. Проступок мой не имел оправданий. Подумайте: девушка, которой благодаря превосходному воспитанию, полученному в святой Доротее, благодаря репутации этого благочестивого заведения в обществе, выпало исключительное счастье выйти замуж без приданого, после пяти лет замужества приезжает из Америки разведенной, притом разведенной без серьезной вины со стороны мужа! Этот оттенок, да и многие другие, тетушка с самого же начала дала мне почувствовать хотя бы манерой держаться от меня на некотором расстоянии. Да разве она и не обязана была выказать справедливую строгость по отношению к особе, которая не только потеряла свое положение в обществе, но, очевидно, пострадала и материально, потому что – что же я теперь буду делать?
Относительно последнего пункта я легко могла успокоить мать Веронику, и с этого и начался наш разговор. Тетушку, по-видимому, вполне удовлетворили мои заверения. Она облегченно вздохнула, будто я сняла у нее тяжесть с плеч. После этого она сложила руки на своем круглом животике и посмотрела на меня довольно благосклонно. Конечно, я все-таки была разводка, находилась вне лона церкви, но, по крайней мере, я не была разводкой нищей. Даже для благочестивых душ в этом есть маленькая разница, и тетушка не была к ней нечувствительна. Несмотря на ее слова, я отлично замечала, что я не производила на нее чересчур невыгодного впечатления. Мои манеры и костюм свидетельствовали, что я не вполне еще потеряла свои французские свойства приличия и такта. Тетушка приготовилась, что увидит на мне кричащий туалет, которым слишком часто щеголяют мамаши американских воспитанниц, когда наносят свои заморские визиты в приемной святой Доротеи. Вместо того я была одета просто и со вкусом. Какая жалость, что я разводка! Наверное, мать Вероника очень жалела, что благовременное вдовство не спасло меня от сделанной мною глупости. Увы, дорогой Жером, мать Вероника охотно принесла бы Вас в жертву интересам религии и нравственности!
Сообщив эти предварительные сведения, я очень скоро увидела, куда она клонит. Ее беспокоил второй вопрос. Собираюсь ли я или нет выйти второй раз замуж? Тетушке было очень важно иметь на это точный ответ. Конечно, развод всегда представляет из себя тяжкое нарушение божеских законов, но есть развод и развод, и в том, что супруги расходятся, когда это прикрыто предлогом взаимного удобства и обоюдного согласия, могут заключаться скрытые объяснения, извиняющие этот проступок. Мужчины такие обманщики, такие грубияны! Хотя добрые сестры сами плохо их знают, однако неважного о них мнения. Иногда бедным женщинам приходится много страдать, и супружество не всегда бывает раем! Бывают случаи, когда вина разведенной очень смягчается и ее можно почти простить. Непростителен только второй брак. В этом случае к скандалу присоединяется еще скандал. Разведенная женщина, вступившая вторично в брак, рискует увековечить свой грех, укрепив его потомством.
Снова я успокоила мать Веронику, и успокоила ее совершенно искренне. Сначала она, по-видимому, была очень довольна моим заявлением, потом мало-помалу снова начала мрачнеть. В первый раз в самого начала нашего разговора она внимательно посмотрела на мое лицо. Она рассматривала его так внимательно, что мне стало неловко. Что она открыла вдруг в моих чертах? Носила ли я на лбу печать отверженных? Судя по гримасе доброй женщины, я могла еще предположить, что я ужасно подурнела с тех пор, как папаши воспитанниц засматривались на меня в приемной. Нет, это не то; наоборот, бедная тетушка в глубине души сожалела, зачем Господь сохранил мне еще некоторые, довольно приятные, свои дары. Что же я буду теперь делать с этими суетными приманками, которые к тому же не послужили мне на пользу, раз им не удалось заставить моего мужа закрыть глаза на мои нравственные несовершенства и согласиться на все мои капризы с тем, чтобы сохранить за собою исключительное право пользоваться моею красотой? Теперь к чему, собственно, может послужить то, что у меня прекрасные глаза, свежие губы и густые волосы? Преимущества эти делаются для меня источником опасностей. Все это можно было прочесть в недоверчивых взглядах матери Вероники. Я Вас уверяю, что она была бы только в восторге, если бы я была кривой, хромой или плешивой. Она бы, конечно, предпочла видеть меня калекой, чем такою, как я теперь, потому что разве не в высшей степени вероятно, что слабые мои прелести могут снискать похвалу и бесчестные предложения со стороны мужчины? И ничто не указывало, что я не поддамся их лести. Женское сердце чувствительно к мужскому восхищению, и тщеславие, которое женщины при этом испытывают, может подсказать им немало глупостей. Тетушка Вероника в тайном своем судилище удостаивала меня чести считать меня способной на самые отъявленные сумасбродства.