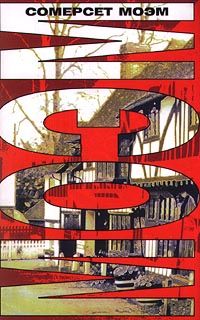Мятежник шагнул ей навстречу. Она кинулась к нему в объятия с хриплым страстным криком: Alma demi cora! Son — сердце души моей.
Он прильнул к ее губам. В то же мгновение выхватил нож из-под рваной рубахи — уму непостижимо, как ему удалось его там спрятать, — и ударил ее в шею. Кровь хлынула из перерезанной вены, обагрив его рубаху. Он снова обнял жену и прижался к ее губам.
Многие не поняли, что произошло — настолько быстро все свершилось, — у других же вырвался крик ужаса, они бросились к нему и схватили его за руки: женщина упала бы, если бы адъютант генерала не подхватил ее. Она была без сознания. Ее положили на землю и обступили, растерянно глядя на нее. Мятежник знал, куда нанести удар: остановить кровь было невозможно. Через минуту адъютант, стоявший возле нее на коленях, поднялся.
— Она мертва, — прошептал он.
Мятежник перекрестился.
— Почему ты это сделал? — спросил генерал.
— Я любил ее.
Словно вздох пробежал по рядам; все взгляды были направлены на убийцу. Генерал молчал и тоже смотрел на него.
— Это был благородный поступок, — сказал наконец генерал. — Я не могу казнить такого человека. Возьмите мою машину и отвезите его на границу. Сеньор, свидетельствую вам свое уважение как смелый человек смелому человеку.
Послышался ропот одобрения. Адъютант тронул убийцу за плечо и, не сказав ни слова, зашагал между двумя солдатами к ожидавшей машине.
Мой знакомый умолк, и я некоторое время тоже молчал. Должен заметить, что он был гватемалец и говорил со мной по-испански. Я постарался как можно лучше перевести то, что услышал, сохранив даже и его несколько напыщенный слог. Честно говоря, я думаю, что он вполне соответствует рассказу.
— Но откуда же этот шрам? — спросил я наконец.
— А, это он как-то раз откупоривал бутылку, и она разорвалась у него в руках. Бутылка шипучки.
— Никогда не любил шипучки, — сказал я.
В поисках материала
(пер. И. Красногорская)
Я часто подумывал, не написать ли мне роман, где главный герой — шулер, и, разъезжая по свету, усердно высматривал представителей этой профессии. Поскольку существует мнение, что занятие это малопочтенное, никто в нем открыто не признается. Эти люди так необщительны, что узнать, каким образом они зарабатывают на жизнь, можно только при самом близком знакомстве, вернее даже — лишь после того, как вы раза три-четыре посидели с ними за зеленым столом. Но и тогда они не склонны распространяться о тайнах своего ремесла. У них есть слабость — выдавать себя за кавалеристов, за торговых агентов или землевладельцев. Подобный снобизм весьма затрудняет для писателя изучение этой категории людей. Мне посчастливилось встретить их немало, они были приветливы, любезны, обходительны, но стоило мне хотя бы очень деликатно проявить любопытство (в конце концов, чисто профессиональное) касательно тонкостей их искусства — и они тут же пугливо замыкались в себе. При одном лишь упоминании о крапленых картах мой собеседник как улитка мгновенно прятался в свою раковину. Меня, однако, не так легко сбить с позиции, и, убедившись, что прямой путь ни к чему не приведет, я избрал окольный. Я был с ними детски простодушен и кроток. В ответ они удостаивали меня своим вниманием и даже сочувствием. Хотя они честно признавались, что не читали ни строчки из написанного мною, само по себе знакомство с писателем не лишено было для них интереса. Быть может, они смутно чувствовали, что и моя профессия не вызывает одобрения обывателей. И все же мне приходилось накапливать материал, исходя из одних догадок. Это требовало терпения и трудолюбия.
Легко себе представить, в каком я был восторге, когда познакомился с двумя джентльменами, которым, по всей видимости, предстояло обогатить скудный запас моих сведений. Я плыл из Хайфона на французском пароходе, который шел на восток, а они сели на него в Гонконге. Они приезжали туда на скачки и теперь возвращались в Шанхай. Я тоже ехал в Шанхай, а оттуда в Пекин. Вскоре я узнал, что они отправились в это путешествие из Нью-Йорка, собираются, как и я, остановиться в Пекине и по счастливой случайности поедут обратно в Америку тем же пароходом, на который взял билет и я. Это были приятные люди, они сразу пришлись мне по душе, но лишь тогда испытал я искреннюю радость от знакомства с ними, когда кто-то из пассажиров шепнул мне, что это профессиональные игроки. Нечего было и надеяться, что они заговорят со мной о своих делах, но я был уверен, что какой-нибудь легкий намек, случайно оброненное замечание откроют мне многое.
Одному из них — звали его Кембл — было лет под сорок; он был невысок, но так строен и хорошо сложен, что вовсе не казался низкого роста; у него были большие печальные глаза и изящные руки. Если бы не ранняя лысина, его можно было бы назвать красивым. Он одевался со вкусом. Говорил тихо и спокойно, движения его были неторопливы. Его спутник был совсем иного склада. Это был крупный мужчина с багровым румянцем и жесткими черными волосами, с виду настоящий силач, с крепкими и, должно быть, скорыми на расправу кулаками. Звали его Питерсон.
Выгоды такого сотрудничества были очевидны. Элегантный, утонченный Кембл обладал острым умом, знанием человеческой природы и ловкостью рук; но жизнь шулера полна опасностей, и, когда дело доходило до драки, кулаки Питерсона всегда были к услугам обоих и, надо полагать, не раз выручали их. Слух о том, что кулак Питерсона свалит с ног кого угодно, с непостижимой быстротой облетел весь пароход. Однако за то короткое время, что мы плыли из Гонконга в Шанхай, они ни разу не предложили сыграть в карты. Может быть, они хорошо заработали за неделю скачек и вкушали теперь заслуженный отдых. И, уж конечно, они поспешили воспользоваться тем, что находились временно вне власти сухого закона; надо отдать им должное — их почти никогда не видели трезвыми. Они мало говорили о себе, но охотно — друг о друге. Кембл сообщил мне, что Питерсон — один из виднейших горных инженеров в Нью-Йорке, а Питерсон уверял меня, что Кембл — известный банкир. Богатства его, говорил Питерсон, неисчислимы. Мне ли было сомневаться в их правдивости! Меня только удивило, что Кембл не до конца обдумал свою роль — ему бы следовало носить более дорогие запонки и булавки; и серебряный портсигар — это, казалось мне, просто небрежность с его стороны.
В Шанхае я пробыл всего один день и хотя снова встретился с этой парой в Пекине, но был очень занят и видел их только мельком. Меня несколько озадачило, что Кембл совсем не выходил из отеля. Он, вероятно, и Храм Неба не пошел смотреть. Но я понимал, что для него Пекин не представляет интереса, и ничуть не удивился, когда приятели снова вернулись в Шанхай, где, как мне было известно, богатые купцы вели крупную игру. Наконец, я встретился с ними на пароходе, который увозил нас в Америку, и не мог им не посочувствовать, видя, что пассажиры вовсе не расположены играть. Состоятельных людей здесь не было. Публика подобралась серая. Кембл, правда, предложил сыграть в покер, но ставки не превышали двадцати долларов, и Питерсон, не желая, должно быть, попусту тратить время, не принимал участия в игре. Хотя мы играли целыми днями, он составил нам компанию только в последний вечер. Очевидно, он решил окупить свои расходы в баре, а это он с легкостью сделал в один присест. Но Кембла, видимо, увлекал самый процесс игры. И, конечно, только тот, кто по-настоящему любит свое дело, может добиться успеха. Ставки для него не существовали, и он играл с утра до вечера каждый день. Когда он своими гибкими пальцами медленно сдавал карты, я не мог оторвать взгляда от его рук. Глаза его, казалось, прожигали каждую карту насквозь. Пил он очень много, ничуть не теряя при этом спокойствия и самообладания. Лицо его оставалось непроницаемым. Я понимал, что это отличный игрок, и мне очень хотелось увидеть его за работой. Столь серьезное отношение к тому, что было для него лишь развлечением, невольно заставляло уважать его.
Я расстался с моими попутчиками в Виктории и подумал, что больше их не увижу. Я начал приводить в порядок свои впечатления, записывать кое-какие детали, которые могли мне потом пригодиться.
Приехав в Нью-Йорк, я нашел у себя письмо: одна старая знакомая приглашала меня на завтрак в ресторан Риц. Когда я пришел, она сказала мне:
— Народу будет совсем мало. Придет один человек, который вам, по-моему, должен понравиться. Это видный банкир. Он будет со своим другом.
Едва она успела это сказать, как я увидел, что к нам подходят Кембл и Питерсон. Я сразу понял все: Кембл — действительно крупный банкир, Питерсон — действительно известный инженер; никакие они не шулера. К чести своей могу сказать, что я ничем себя не выдал, но, вежливо пожав им руки, я с негодованием пробормотал сквозь зубы:
— Самозванцы!
Непокоренная
(пер. Н. Дехтярева)