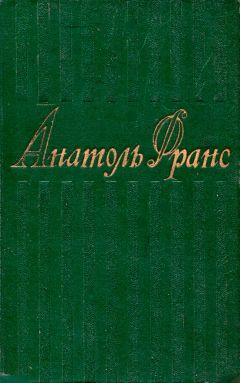Там, справа, красивая миниатюра францисканца вернулась на свое место, но мне все кажется, что я удерживаю ее на этом месте тяжким напряженьем воли и стоит мне устать, как снова появится там гадкая кошачья голова. У меня нет бреда: я хорошо вижу Терезу у изножия моей кровати, хорошо слышу то, что она мне говорит; и я бы ей ответил с полной ясностью ума, если бы не был так занят, удерживая все окружающие предметы в присущем им обличье.
Вот и доктор. Я за ним не посылал, но рад его видеть. Это старинный сосед, он мало поживился от меня, но я его люблю. Если я не говорю ему ничего толкового, то по крайней мере все сознаю и даже по-своему лукавлю, подмечая его жесты, взгляды, малейшие складки на его лице. Доктор хитер, и, право, не знаю, что думает он о моем состоянии. Мне приходит на ум глубокомысленное изречение Гете; я говорю:
— Доктор, старик согласился только заболеть, но большего он не уступит природе в этот раз.
Ни доктор, ни Тереза не смеются моей шутке. Очевидно, не поняли.
Доктор уходит. Вечереет. Всевозможные тени образуются, как облака, и тают в складках полога. Тени толпой проходят мимо меня, сквозь них мне видится недвижное лицо верной моей служанки. Вдруг крик, пронзительный крик, крик скорби раздирает мой слух. «Жанна, это вы меня зовете?»
Смерклось, и тени стали у моего изголовья на всю долгую ночь.
На заре я успокаиваюсь; покой, безграничный покой объемлет меня всего. Не лоно ли твое мне раскрываешь, господи?
Февраль 1876 года
Доктор совсем развеселился. Видимо, я, встав на ноги, оказываю ему большую честь. Послушать его, так на мое старческое тело обрушились неисчислимые недуги.
Эти недуги — ужас для человека, а их названия — ужас для филолога; они — словесные гибриды, полулатинские, полугреческие, с окончаниями на um — для воспалительного состояния и на алгия — для болезненных процессов. Доктор перечисляет их с достаточным количеством прилагательных на ый, характеризующих их отвратительные свойства. Короче говоря, добрый столбец из медицинского словаря.
— Вашу руку, доктор. Вы вернули меня к жизни, я вас прощаю. Вы возвратили меня моим друзьям, благодарю вас. Вы говорите, что я прочен. Конечно, конечно, но я порядком зажился. Я — старая мебель, весьма похожая на кресло моего отца. Этому добродетельному человеку оно досталось по наследству, и он сидел в нем с утра до вечера. Мальчуганом, я взбирался на ручки этого древнего кресла раз двадцать за день. Пока оно держалось крепко, никто не обращал на него внимания. Но оно захромало на одну ногу, и стали говорить, что это хорошее кресло. Затем оно охромело на три ноги, поскрипывало четвертой и почти обезручело. Только тогда стали восклицать: «Какое прочное кресло!» Дивились тому, что, не имея ни одной ручки и твердо стоящей ножки, оно все же сохраняло форму кресла, кое-как держалось и до известной степени было пригодно. Наконец волос из его обивки вылез, и оно приказало долго жить. А когда наш слуга Киприан распилил его на части, чтобы сложить в дровяной сарай, возгласы изумления усилились: «Замечательное, чудесное кресло! На нем сидел Пьер-Сильвестр Бонар, купец-суконщик, его сын Эпименид Бонар и Жан-Батист Бонар — начальник третьего морского отделения, философ-пирроник[204]. Какое почтенное, могучее кресло!» На самом деле это было отжившее кресло. Вот, доктор, и я такое кресло. Вы считаете меня крепким потому, что я выдержал приступы таких болезней, какие прикончили бы изрядное количество людей совсем, а меня доконали только на три четверти. Весьма благодарен. Но это нисколько не мешает мне быть чем-то непоправимо поврежденным.
С помощью многозначительных греческих и латинских слов доктор стремится доказать мне, что я в хорошем состоянии, — для убеждения такого рода язык французский слишком ясен. Я все же даю себя уговорить и провожаю доктора до двери.
— И в добрый час! — говорит мне Тереза. — Вот как надо выпроваживать лекарей. Стоит вам принять его таким манером еще разика два-три, он больше не придет, а оно и к лучшему.
— Вот что, Тереза, раз уж я опять стал молодцом, не лишайте меня писем. Наверно, их накопилась целая кипа, и не давать мне их читать теперь было бы злодейством.
Немного поломавшись, Тереза подала мне письма. Но что толку? Я просмотрел конверты, и ни один не был надписан той милой ручкой, которую хотелось бы мне видеть здесь, перелистывающей Вечельо. Я отбросил в сторону всю пачку, не говорившую мне больше ничего.
Апрель — июнь
Дело было жаркое.
— Подождите, я обряжусь почище и сегодня еще пойду с вами, — сказала Тереза, — как в прошлые разы, возьму складной стул, и мы посидим на солнышке.
Право, Тереза считает меня немощным. Не спорю, я несомненно болен, но всему бывает конец. Особа по имени Болезнь давно ушла, и вот уже три месяца, как ее спутница — Поправка, дама с бледным и приятным лицом, мило со мною распрощалась. Слушайся я своей экономки, я бы стал просто-напросто господином Арганом[205] и напоследок дней своих надел бы себе на голову ночной колпак с лентами… Только не это! Я решил пойти один. Тереза решила иначе: в руках у нее складной стул, она желает мне сопутствовать.
— Тереза, завтра мы будем сидеть на солнце, у стены «Маленького Прованса», сколько вашей душе угодно. Но сегодня у меня спешные дела.
Дела! Она думает, что речь идет о деньгах, и толкует мне, что это не к спеху.
— Тем лучше! Но в нашем мире, кроме таких дел, бывают и другие.
Я молю, ропщу, спасаюсь бегством.
Погода довольно хорошая. Благодаря извозчику и божьему неоставленью я выполню свое намерение.
Вот и стена с надписью синими буквами: Женский пансион мадемуазель Виргинии Префер. Вот и решетчатые ворота, готовые широко распахнуться на парадный двор, если бы их отворяли. Но замок заржавел, и железные листы, прикрепленные к решетке изнутри, охраняют от нескромных взглядов юные души, которые мадемуазель Префер, ничтоже сумняшеся, наставляет в скромности, чистосердечии, справедливости и бескорыстии. Вот забранное решеткою окно с грязными стеклами — очевидно, в помещении для прислуги, — мутное и единственное око, открытое во внешний мир.
А вот и боковая дверца, куда я столько раз входил, теперь для меня запретная; я снова вижу ее решетчатый «глазок». Каменный приступок к ней сносился, и я своими близорукими даже в очках глазами все же различаю те белые царапинки, какими его исчертили подбитые гвоздями ботинки проходивших учениц. Не могу ли пройти по нему и я? Мне кажется, что в этом угрюмом доме Жанна страдает и втайне зовет меня. Нет, мне нельзя уйти отсюда. Тревога овладевает мной; я звоню. Испуганная служанка отворяет дверь боязливее чем когда-либо. Отдан приказ: мои свиданья с мадемуазель Жанной запрещаются. Я по крайней мере справляюсь о ее здоровье. Служанка, поглядев направо и налево, говорит мне, что Жанна здорова, и тут же захлопывает дверь перед моим носом. И я опять на улице.
Как много раз с тех пор бродил я вдоль этой же стены и проходил мимо боковой дверки, пристыженный и сокрушенный мыслью, что я сам слабее того ребенка, у которого нет в мире другой поддержки, кроме меня.
10 июня
Я превозмог в себе гадливость и отправился к мэтру Мушу. Прежде всего я обнаружил, что в конторе стало еще больше пыли и плесени, чем в прошлом году. Опять передо мной нотариус с его скупыми жестами и бегающими позади очков зрачками. Я приношу свои жалобы. Он отвечает… Но стоит ли в тетради, хотя бы и предназначенной к сожженью, закреплять воспоминание о пошлом негодяе? Он оправдывает мадемуазель Префер, так как давно оценил ее ум и характер. Воздерживаясь говорить по существу спора, он должен сказать, что внешняя сторона дела не в мою пользу. Это мало меня тревожит. Он добавляет (и это тревожит меня сильнее), что небольшая сумма, хранившаяся у него и предназначенная для воспитания его подопечной, уже исчерпана и он восхищен бескорыстием мадемуазель Префер, согласной держать у себя мадемуазель Жанну при настоящих обстоятельствах.
Чудесный свет, свет ясного дня, непорочною волной вливается в такое пакостное место и освещает такого человека; на улице он затопляет своим блеском все убожество густо населенного квартала.
Как ласков этот свет, как давно он наполняет мои глаза и как скоро я перестану наслаждаться им! Погруженный в думы, заложив руки за спину, я бреду вдоль укреплений и, сам не знаю как, вдруг оказываюсь среди тощих палисадников в глухом предместье. На краю пыльной дороги мне встретилось растение с ярким и в то же время сумрачным цветком, как будто созданным для единенья с чистейшею и благороднейшею скорбью. Это аквилегия. Наши отцы звали ее перчаткой богородицы. Но богородица, лишь превратив себя в малютку, чтобы явиться детям, могла бы сунуть пальчики в узкие коробочки цветка.