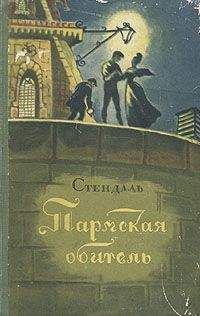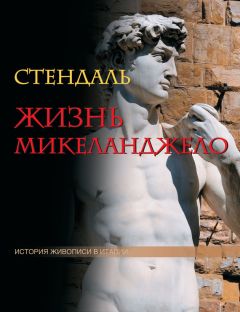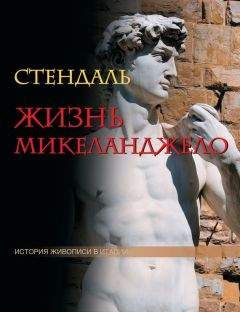Клелия была в отчаянии, но, к счастью, совершенно не подозревала о преступном вмешательстве герцогини. Полумертвого генерала доставили на носилках в крепость, где поднялся такой переполох, что Лодовико и его люди прошли беспрепятственно; только для порядка их обыскали на «мостике раба». Но когда они перенесли генерала в спальню и уложили на постель, их отвели в людскую, где слуги очень хорошо угостили их. А после пирушки, затянувшейся до глубокой ночи, гостям разъяснили, что, по заведенному обычаю, их до утра запрут в комнатах нижнего этажа, а затем заместитель коменданта выпустит их на свободу.
Помощники Лодовико ухитрились передать ему веревки, которые принесли с собой, но Лодовико было очень трудно привлечь к себе хоть на минуту внимание Клелии. Наконец, когда она переходила из одной комнаты в другую, он показал ей, что сложил веревки в темном углу одной из гостиных второго этажа. Клелию поразило это странное обстоятельство, и тотчас у нее возникли подозрения.
– Кто вы такой? – спросила она Лодовико.
И после его уклончивого ответа добавила:
– Вас нужно арестовать. Вы или ваши люди отравили моего отца!.. Признавайтесь сию же минуту, какой яд вы ему подсыпали, чтобы крепостной врач мог назначить ему противоядие. Признавайтесь сию минуту, иначе вы и ваши сообщники никогда не выйдете из крепости.
– Синьорина, вы напрасно тревожитесь, – ответил Лодовико, изъясняясь с большим изяществом и учтивостью. – Об отраве и речи быть не может. Просто, по неосторожности, генералу дали слишком большую дозу лауданума; видимо, болван лакей, которому поручили это дело, налил в бокал несколько лишних капель. Мы вечно будем раскаиваться в этом, но поверьте, синьорина, опасности, ей-богу, никакой нет. Господина коменданта надо только полечить от принятой им по ошибке слишком большой дозы лауданума. Честь имею повторить вам, синьорина: лакей, которому дано было это предосудительное поручение, отнюдь не пользовался настоящим ядом, как Барбоне, когда пытался отравить монсиньора Фабрицио. У нас вовсе не было намерения отомстить за смертельную опасность, которой подвергался монсиньор Фабрицио: неловкому лакею дали пузырек с одним только лауданумом, – клянусь вам, синьорина! Но, разумеется, если меня станут официально допрашивать, я от всего отопрусь. Впрочем, синьорина, если вы скажете кому-нибудь о лаудануме и об отравлении – хотя бы даже добрейшему дону Чезаре, – вы собственными своими руками убьете Фабрицио. Вы навсегда сделаете невозможной всякую его попытку к бегству, а ведь вы, синьорина, лучше меня знаете, что монсиньора Фабрицио хотят отравить и уж, конечно, не каким-то безвредным, лауданумом. Вам известно также, что некой особой дан для этого преступления месячный срок, а прошло уже более недели со дня рокового приказа. Поэтому, синьорина, если вы распорядитесь арестовать меня или только обмолвитесь хоть словом дону Чезаре или кому-либо другому, вы отсрочите все наши попытки больше чем на месяц, а, следовательно, я имею полное основание сказать, что вы собственными своими руками убьете монсиньора Фабрицио.
Клелию привело в ужас странное спокойствие Лодовико. «Что же это?! Я как ни в чем не бывало веду беседу с отравителем моего отца, – думала она. – Он уговаривает меня, щеголяет учтивыми оборотами речи… Неужели любовь привела меня ко всем этим преступлениям?..» Угрызения совести не давали ей говорить, она с трудом вымолвила:
– Я вас запру на ключ в этой гостиной. Сама же побегу предупредить врача, что лечить надо от лауданума. Но, господи, как мне объяснить, откуда я это узнала… Потом я приду и выпущу вас.
Клелия побежала и вдруг остановилась в дверях:
– Скажите, Фабрицио знал что-нибудь о лаудануме?
– Боже мой! Синьорина, что вы! Да он бы никогда не согласился! И зачем нам зря открывать наши тайны! Мы действуем очень осторожно. Нам надо спасти монсиньора, – ведь через три недели его отравят! Приказ получен от такого лица, которое не потерпит ослушания, и, если уже говорить начистоту, синьорина, поручение это, по нашим сведениям, возложено на страшного человека – на самого фискала Расси.
Клелия в ужасе убежала. Она твердо полагалась на честность дона Чезаре и сказала ему, правда с некоторыми недомолвками, что генералу дали лауданума, а не что-либо иное. Ничего не ответив, ни о чем не допытываясь, дон Чезаре бросился к врачу.
Клелия вернулась в ту гостиную, где она заперла Лодовико, решив подробней расспросить его о лаудануме. Она не нашла его там: ему удалось ускользнуть. Она увидела на столе кошелек, набитый цехинами, и шкатулочку с различными ядами. Увидев эти яды, Клелия вся задрожала. «Кто меня уверит, что отцу дали только лауданума? А вдруг герцогиня вздумала отомстить за покушение Барбоне? Боже великий, – воскликнула она, – я вступила а переговоры с отравителями моего отца, и я допустила чтобы они убежали! А может быть, этот человек на допросе признался бы, что там был не только лауданум!..»
Клелия залилась слезами и, упав на колени, горячо стала молиться мадонне.
А в это время тюремный врач, крайне удивляясь сообщению дона Чезаре о том, что лечить надо только от лауданума, применил надлежащие средства, и вскоре самые тревожные симптомы исчезли. Едва забрезжило утро, больной немного пришел в себя. Первым признаком возвратившегося сознания была ругань, с которой он обрушился на полковника, состоявшего его помощником, за то, что тот осмелился дать какое-то незначительное распоряжение, пока комендант лежал без памяти.
Затем генерал страшно разгневался на кухарку, которая принесла ему бульон и неосторожно произнесла слово «паралич».
– Разве в мои годы может быть паралич? Только злейшим моим врагам приятно распространять такие слухи. Да и сами клеветники не посмеют говорить о параличе, раз не было нужды пустить мне кровь!
Фабрицио, поглощенный приготовлениями к побегу, никак не мог понять, что за странный шум поднялся в крепости в тот час, когда туда принесли еле живого коменданта. Сначала у него мелькнула мысль, что приговор изменен и сейчас его поведут на казнь. Видя, однако, что никто не поднимается к нему в камеру, он подумал, что Клелию выдали, что при возвращении в крепость у нее отняли веревки, которые она, вероятно, везла с собою, и теперь все планы его побега бесполезны. На рассвете в камеру вошел какой-то незнакомый человек, молча поставил на стол корзинку с фруктами и исчез. Под фруктами было спрятано письмо следующего содержания:
«Терзаясь угрызениями совести из-за того, что было сделано не с моего согласия, – нет, благодарение небу! – но все же в связи с мыслью, которая пришла мне, я дала пресвятой деве обет, что, если по милостивому ее заступничеству мой отец будет спасен, я никогда не воспротивлюсь его воле; я выйду замуж за маркиза Крешенци, как только он попросит моей руки, и никогда больше не увижу вас. Однако я считаю своим долгом закончить то, что начато. В ближайшее воскресенье, возвращаясь от обедни, на которую вас поведут по моей просьбе (подумайте о своей душе, – ведь вы можете погибнуть при этой трудной попытке), возвращаясь от обедни, говорю я, постарайтесь как можно медленнее подниматься в свою камеру; вы там найдете все необходимое для задуманного дела. Если вы погибнете, душа моя будет скорбеть. Неужели я окажусь виновницей вашей гибели?.. Но ведь сама герцогиня несколько раз повторяла мне, что клика Раверси берет верх: принца хотят связать жестоким поступком, который навсегда разлучит его с графом Моска. Герцогиня, заливаясь слезами, клялась мне, что остается только один выход, что вы погибнете, если откажетесь от этой попытки. Мне больше нельзя смотреть на вас, – я дала обет, но если в воскресенье, под вечер, вы увидите меня на обычном месте, у окна, в черном платье, знайте, что ночью все будет готово, насколько то окажется возможным для слабых моих сил. После одиннадцати часов вечера – может быть, в полночь или в час ночи – в моем окне зажжется маленькая лампочка: это сигнал, что настала решающая минута; отдайте тогда свою судьбу в руки святого своего покровителя, немедленно переоденьтесь в платье священника, которое вам доставили, и бегите.
Прощайте, Фабрицио. Вас ждут грозные опасности. Верьте, что в эти минуты я буду молиться за вас и плакать горькими слезами. Если вы погибнете, мне не пережить этого. Боже великий, что я говорю!.. Но если вам удастся спастись, я никогда не увижу вас. В воскресенье, после обедни, вы найдете в своей камере деньги, яды, веревки, – их прислала та страшная женщина, которая так страстно любит вас; она трижды повторила мне, что иного выхода нет… Да хранит вас господь и пресвятая мадонна!»
Фабио Конти был тюремщиком весьма беспокойного, несчастного нрава; постоянно ему мерещилось в снах, что кто-то из его узников убегает; все обитатели крепости ненавидели его; но несчастья принижают людей: бедняги заключенные, даже те, кого держали закованными в казематах высотою в три фута и длиною в восемь футов, в каменных гробах, где они не могли ни встать, ни сесть, даже эти несчастные решили заказать на свой счет благодарственный молебен, когда узнали, что их тюремщик вне опасности. Два-три узника написали сонеты в честь Фабио Конти. Вот как действует на людей несчастье! Но пусть того, кто осудит их, судьба заставит провести хоть один год в каземате высотою в три фута, получать там в день восемь унций хлеба и поститься по пятницам!