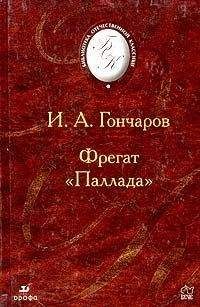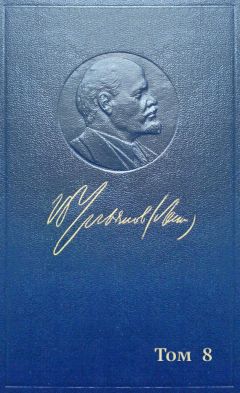За нами вслед, шумной толпой, явились знакомые лица – переводчики: они ринулись на пол и в три ряда уселись по-своему. Мы завели с ними разговор. "У вас стекол нет вовсе в рамах?" – спросил К. Н. Посьет. "Нет", – был ответ. "У вас все домы в один этаж или бывают в два этажа?" – спрашивал Посьет. "Бывают в два", – отвечал Кичибе и поглядел на Льоду. "И в три", – сказал тот и поглядел на Садагору. "Бывают тоже и в пять", – сказал Садагора. Мы засмеялись. "Часто у вас бывают землетрясения?" – спросил Посьет. "Да, бывают", – отвечал Садагора, глядя на Льоду. "Как часто: в десять или двадцать лет?" – "Да, и в десять, и в двадцать лет бывают", – сказал Льода, поглядывая на Кичибе и на Садагору. "Горы расседаются, и домы падают", – прибавил Садагора. И в этом тоне продолжался весь разговор.
Вдруг из дверей явились, один за другим, двенадцать слуг, по числу гостей; каждый нес обеими руками чашку с чаем, но без блюдечка. Подойдя к гостю, слуга ловко падал на колени, кланялся, ставил чашку на пол, за неимением столов и никакой мебели в комнатах, вставал, кланялся и уходил. Ужасно неловко было тянуться со стула к полу в нашем платье. Я протягивал то одну, то другую руку и насилу достал. Чай отличный, как желтый китайский. Он густ, крепок и ароматен, только без сахару.
Опять появились слуги: каждый нес лакированную деревянную подставку, с трубкой, табаком, маленькой глиняной жаровней, с горячими углями и пепельницей, и тем же порядком ставили перед нами. С этим еще было труднее возиться. Японцам хорошо, сидя на полу и в просторном платье, проделывать все эти штуки: набивать трубку, закуривать углем, вытряхивать пепел; а нам каково со стула? Я опять вспомнил угощенье Лисицы и Журавля.
Хотя табак японский был нам уже известен, но мы сочли долгом выкурить по трубке, если только можно назвать трубкой эти наперстки, в которые не поместится щепоть нюхательного, не то что курительного табаку. Кажется, я выше сказал, что японский табак чрезвычайно мягок и крошится длинными волокнами. Он так мелок, что в пачке, с первого взгляда, похож на кучу какой-то темно-красной пыли.
Кичибе суетился: то побежит в приемную залу, то на крыльцо, то опять к нам. Между прочим, он пришел спросить, можно ли позвать музыкантов отдохнуть. "Хорошо, можно", – отвечали ему и в то же время послали офицера предупредить музыкантов, чтоб они больше одной рюмки вина не пили.
Только что мы перестали курить, явились опять слуги, каждый с деревянным, гладко отесанным и очень красивым, хотя и простым, ящиком. Поставили перед нами по ящику: кто постарше, тем на ножках, прочим без ножек. Открываем – конфекты. Большой кусок чего-то вроде торта, потом густое, как тесто, желе, сложенное в виде сердечка; далее рыбка из дрянного сахара, крашеная и намазанная каким-то маслом; наконец, мелкие, сухие конфекты: обсахаренные плоды и, между прочим, морковь. Не правда ли, отчаянная смелость в деле кондитерского искусства? А ничего, недурно: если, на основании известной у нас в народе поговорки, можно "съесть и обсахаренную подошву", то морковь, конечно, и подавно! Да, взаперти многого не выдумаешь, или, пожалуй, чего не выдумаешь, начиная от варенной в сахаре моркови до пороху включительно, что и доказали китайцы и японцы, выдумав и то и другое.
Наконец, не знаю в который раз, вбежавший Кичибе объявил, что если мы отдохнули, то губернатор ожидает нас, то есть если устали, хотел он, верно, сказать. В самом деле устали от праздности. Это у них называется дело делать. Мы пошли опять в приемную залу, и начался разговор.
Прежде всего сели на перенесенные в залу кресла, а губернатор на маленькое возвышение, на четверть аршина от пола. Кичибе и Льода оба лежали подле наших стульев, касаясь лбом пола. Было жарко, крупные капли пота струились по лицу Кичибе. Он выслушивал слова губернатора, бросая на него с полу почтительный и, как выстрел, пронзительный взгляд, потом приподнимал голову, переводил нам и опять ложился лбом на пол. Льода лежал всё время так и только исподлобья бросал такие же пронзительные взгляды то на губернатора, то на нас. Старший был Кичибе, а Льода присутствовал только для поверки перевода и, наконец, для того, что в одиночку они ничего не делают. Кругом, ровным бордюром вдоль стен, сидели на пятках все чиновники и свита губернатора.
Воцарилось глубочайшее молчание. Губернатор вынул из лакированного ящика бумагу и начал читать чуть слышным голосом, но внятно. Только что он кончил, один старик лениво встал из ряда сидевших по правую руку, подошел к губернатору, стал, или, вернее, пал на колени, с поклоном принял бумагу, подошел к Кичибе, опять пал на колени, без поклона подал бумагу ему и сел на свое место.
После этого вдруг раздался крикливый, жесткий, как карканье вороны, голос Кичибе: он по-голландски передал содержание бумаги нам. Смеяться он не смел, но втягивал воздух в себя; гримасам и всхлипываньям не было конца.
В бумаге заключалось согласие горочью принять письмо. Только было, на вопрос адмирала, я разинул рот отвечать, как губернатор взял другую бумагу, таким же порядком прочел ее; тот же старик, секретарь, взял и передал ее, с теми же церемониями, Кичибе. В этой второй бумаге сказано было, что "письмо будет принято, но что скорого ответа на него быть не может".
Оно покажется нелогично, не прочитавши письма, сказать, что скорого ответа не может быть. Так, но имея дело с японцами, надо отчасти на время отречься от европейской логики и помнить, что это крайний Восток. Я выше сказал, что они народ незакоренелый без надежды и упрямый: напротив, логичный, рассуждающий и способный к принятию других убеждений, если найдет их нужными. Это справедливо во всех тех случаях, которые им известны по опыту; там же, напротив, где для них всё ново, они медлят, высматривают, выжидают, хитрят. Не правы ли они до некоторой степени? От европейцев добра видели они пока мало, а зла много: оттого и самое отчуждение их логично. Португальские миссионеры привезли им религию, которую многие японцы доверчиво приняли и исповедовали. Но ученики Лойолы привезли туда и свои страстишки: гордость, любовь к власти, к золоту, к серебру, даже к превосходной японской меди, которую вывозили в невероятных количествах, и вообще всякую любовь, кроме христианской. Вам известно, что было следствием этого: варфоломеевские ночи и отчуждение от света.
Но если вспомнить, что делалось в эпоху младенчества наших старых государств, как встречали всякую новизну, которой не понимали, всякое открытие, как жгли лекарей, преследовали физиков и астрономов, то едва ли японцы не более своих просветителей заслуживают снисхождения в упрямом желании отделаться от иноземцев. Удивительно ли после этого, что осторожность и боязнь повторения старых зол отдалили их от нас, помешали им вырасти и что у них осталась только их природная смышленость да несколько опытов, давших им фальшивое понятие обо всем, что носит название образованности?
Пока читали бумаги, я всматривался в лица губернатора и его придворных, занимаясь сортировкою физиономий на смышленые, живые, вовсе глупые или только затупелые от недостатка умственного движения. Было также несколько загадочных, скрытных и лукавых лиц. У многих в глазах прятался огонь, хотя они и смотрели, по обыкновению, сонно и вяло. Любопытно было наблюдать эти спящие страсти, непробужденные и нетронутые желания, вместо которых выглядывало детское притворство или крайняя неловкость. У них, кажется, в обычае казаться при старшем как можно глупее, и оттого тут было много лиц, глупых из почтения. Если губернатор и казался умнее прочих, так это, может быть, потому, что он был старше всех. А в Едо и он кажется глуп. Одно лицо забавнее другого.
Вон и все наши приятели: Бабa-Городзаймон например, его узнать нельзя: он, из почтения, даже похудел немного. Чиновники сидели, едва смея дохнуть, и так ровно, как будто во фронте. Напрасно я хочу поздороваться с кем-нибудь глазами: ни Самбро, ни Ойе-Саброски, ни переводчики не показывают вида, что замечают нас.
Впрочем, в их уважении к старшим я не заметил страха или подобострастия: это делается у них как-то проще, искреннее, с теплотой, почти, можно сказать, с любовью, и оттого это не неприятно видеть. Что касается до лежанья на полу, до неподвижности и комической важности, какую сохраняют они в торжественных случаях, то, вероятно, это если не комедия, то балет в восточном вкусе, во всяком случае спектакль, представленный для нас. Должно быть, и японцы в другое время не сидят точно одурелые или как фигуры воскового кабинета, не делают таких глупых лиц и не валяются по полу, а обходятся между собою проще и искреннее, как и мы не таскаем же между собой везде караул и музыку. Так думалось мне, и мало ли что думалось!
Еще мне понравилось в этом собрании шелковых халатов, юбок и мантилий отсутствие ярких и резких красок. Ни одного цельного цвета, красного, желтого, зеленого: всё смесь, нежные, смягченные тоны того, другого или третьего. Не верьте картинкам, на которых японцы представлены какими-то попугаями. И простой народ здесь не похож костюмами на ту толпу мужчин, женщин и детей, которую я видел на одной плантации в Сингапуре. Там я поражен был смесью ярких платьев на малайцах и индийцах и счел их за какое-то собрание птиц в кабинете натуральной истории. Здесь, в толпе низшего класса, в большинстве, во-первых, бросается в глаза нагота, как я сказал, а потом преобладает какой-нибудь один цвет, но не из ярких, большею частью синий. В платьях же других, высших классов допущены все смешанные цвета, но с большою строгостью и вкусом в выборе их.