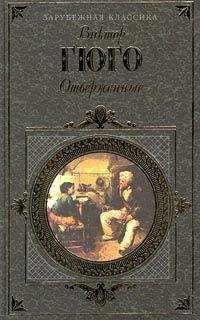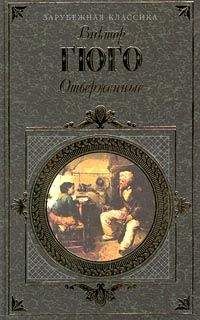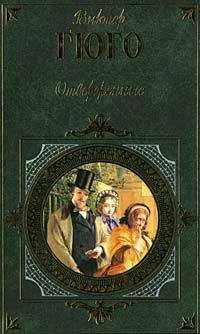Достоверно лишь, что вслед за победителями всегда крадутся грабители. Однако солдаты к этому непричастны, особенно солдаты современные.
За каждой армией тянется хвост, — вот где следует искать виновников. Существа, родственные летучим мышам, полуразбойники — полулакеи, все разновидности нетопырей, возникающие в сумерках, которые именуются войной, люди, облаченные в военные мундиры, по никогда не сражавшиеся, мнимые больные, злобные калеки, подозрительные маркитанты, разъезжающие в тележках, иногда даже со своими женами, и ворующие то, что сами продали, нищие, предлагающие себя офицерам в проводники, обозная прислуга, мародеры — весь этот сброд волочился во время похода за армией прежнего времени (мы не имеем в виду армию современную) и даже получил на специальном языке кличку «ползунов». Никакая армия и никакая нация за них не ответственны. Они говорили по-итальянски — и следовали за немцами, говорили по-французски — и следовали за англичанами. Один из таких подлецов, испанский «ползун», болтавший по-французски на тарабарско-пикарском наречии, обманул маркиза де Фервака, полагавшего, что это француз. Маркиз был убит и ограблен на поле битвы под Серизолой в ночь после победы. Узаконенный грабеж породил грабителя. Следствием отвратительного принципа: «жить на счет врага» явилась язва, исцелить которую могла лишь суровая дисциплина. Существуют обманчивые репутации; порой трудно понять, чему приписать необыкновенную популярность иных полководцев, хотя бы и великих. Тюренн был любим своими солдатами за то, что допускал грабеж — дозволенное зло является одним из проявлений доброты; Тюренн был настолько добр, что разрешил предать Палатинат огню и мечу. Количество присосавшихся к армии мародеров зависело от большей или меньшей строгости главнокомандующего. В армиях Гоша и Марсо «ползунов» совсем не было; следует отдать справедливость Веллингтону, что и в его армии их было мало.
Тем не менее в ночь с 18 на 19 июня мертвецов раздевали. Веллингтон был суров; он издал приказ беспощадно расстреливать каждого, кто будет пойман на месте преступления. Но привычка грабить пускает глубокие корни. Мародеры воровали на одном конце поля, в то время как на другом их расстреливали. Зловеще светила луна над этой равниной.
Около полуночи какой-то человек брел, вернее, полз по направлению к оэнской дороге. Это был, по-видимому, один из тех, о ком мы только что говорили: не француз, не англичанин, не солдат, не землепашец, не человек, а вурдалак, привлеченный запахом мертвечины и пришедший обобрать Ватерлоо, понимая победу как грабеж. На нем была блуза, смахивавшая на солдатскую шинель, он был труслив и дерзок, он продвигался вперед, но то и дело оглядывался. Кто же был этот человек? Вероятно, ночь знала о нем больше, чем день. Мешка при нем не было — очевидно, его заменяли вместительные карманы шинели. Время от времени он останавливался, оглядывал поле, словно желая убедиться, что за ним не следят, быстро нагибался, ворошил на земле что-то безмолвное и неподвижное, затем выпрямлялся и незаметно уходил. Его скользящая походка, его позы, его быстрые и таинственные движения придавали ему сходство с теми злыми духами ночи, которые водятся среди развалин и которых древние нормандские предания окрестили «шатунами».
Иные голенастые ночные птицы такими же силуэтами вырисовываются на фоне болот.
Вглядевшись в окружающий туман, можно было заметить на некотором расстоянии неподвижную и как бы спрятанную за лачугой, стоявшей у Нивельского шоссе, на повороте дороги из Мон-Сен-Жан в Брен-л'Алле, небольшую повозку маркитанта с верхом, крытым просмоленными прутьями ивняка. В повозку впряжена была тощая кляча, щипавшая через удила крапиву. Внутри фургона на ящиках и узлах сидела какая-то женщина. Быть может, существовала какая-то связь между этой повозкой и этим бродягой.
Ночь была ясная. Ни облачка в вышине. Внизу лежала обагренная кровью земля, а луна все так же отливала серебром. В этом проявлялось безучастие неба. Ветви деревьев, подбитые картечью, но удерживаемые зацепившейся корой от падения, покачивались на ночном ветру. Легкое дуновение, почти дыхание, шевелило густой кустарник. По траве пробегала зыбь, словно последнее содрогание отлетающих душ.
Издали неясно доносились шаги ходивших взад и вперед патрулей да оклики дозорных в лагере англичан.
Гугомон и Ге-Сент все еще пылали, образуя на западе и на востоке два ярких зарева, связанных между собою цепью сторожевых огней английского лагеря, растянувшейся по холмам громадным полукругом и напоминавшей рубиновое ожерелье с двумя карбункулами на концах.
Мы уже говорили о бедствии на оэнской дороге.
При одной мысли о том, сколько храбрецов там погибло и какою смертью, сердце невольно содрогается.
Если существует на свете что-либо ужасное, если есть действительность, превосходящая самый страшный сон, то это: жить, видеть солнце, быть в расцвете сил, быть здоровым и радостным, смеяться над опасностью, лететь навстречу ослепительной славе, которую видишь впереди, ощущать, как дышат легкие, как бьется сердце, как послушна разуму воля, говорить, думать, надеяться, любить, иметь мать, иметь жену, иметь детей, обладать знаниями, — и вдруг, даже не вскрикнув, в мгновение ока рухнуть в бездну, свалиться, скатиться, раздавить кого-то, быть раздавленным, видеть хлебные колосья над собой, цветы, листву, ветви и быть не в силах удержаться, сознавать, что сабля твоя бесполезна, ощущать под собой людей, над собой лошадей, тщетно бороться, чувствовать, как, брыкаясь, лошадь в темноте ломает тебе кости, как в глаз тебе вонзается чей-то каблук, яростно хватать зубами лошадиные подковы, задыхаться, реветь, корчиться, лежать внизу и думать: «Ведь только что я еще жил!»
Там, где во время этого ужасного бедствия раздавались хрипение и стоны, теперь царила тишина. Дорога в ложбине была доверху забита трупами лошадей и всадников. Жуткое зрелище! Откосы исчезли. Трупы сравняли дорогу с полем и лежали вровень с краями ложбины, как утрясенный четверик ячменя. Груда мертвецов на более возвышенной части, река крови в низменной — такова была эта дорога вечером 18 июня 1815 года. Кровь текла даже через Нивельское шоссе, образуя огромную лужу перед засекой, преграждавшей шоссе в том месте, на которое до сей поры обращают внимание путешественников. Как помнит читатель, кирасиры обрушились в овраг оэнской дороги с противоположной стороны — со стороны Женапского шоссе. Количество трупов на дороге зависело от большей или меньшей ее глубины. Около середины, где дорога становилась ровной и где прошла дивизия Делора, слой мертвых тел был тоньше.
Ночной бродяга, которого мы видели мельком, шел в этом направлении. Он рылся в этой огромной могиле. Он разглядывал ее. Он делал отвратительный смотр мертвецам. Он шагал по крови.
Вдруг он остановился.
В нескольких шагах от него, на дороге, там, где кончалось нагромождение трупов, из-под груды лошадиных и человеческих останков выступала рука, освещенная луной.
На одном из пальцев этой руки что-то блестело; то был золотой перстень.
Бродяга нагнулся, присел на корточки, а когда встал, то перстня на пальце уже не было.
Собственно, он не встал — он остался на коленях, в неловкой позе оторопевшего человека, спиной к мертвецам, всматриваясь в даль, всей тяжестью тела навалившись на пальцы, которыми упирался в землю, настороженный, с приподнятой над краем рва головой. Повадки шакала вполне уместны при совершении некоторых действий.
Затем он выпрямился, но тут же подскочил на месте. Он почувствовал, как кто-то ухватил его сзади. Он оглянулся. Вытянутые пальцы руки сжались, вцепившись в полу его шинели.
Честный человек испугался бы, а этот ухмыльнулся.
— Гляди-ка! — сказал он. — Это, оказывается, покойничек! Ну, мне куда милей выходец с того света, чем жандарм!
Рука между тем ослабела и выпустила его. Усилие не может быть длительным в могиле.
— Вот оно что! — пробормотал бродяга. — Мертвец-то жив! Ну-ка, посмотрим!
Он снова наклонился, разбросал кучу, отвалил то, что мешало, ухватился за руку, высвободил голову, вытащил тело и спустя несколько минут поволок по дороге во тьме если не бездыханного, то во всяком случае потерявшего сознание человека. Это был кирасир, офицер и даже, как видно, в высоком чине: из-под кирасы виднелся толстый золотой эполет; каски на нем не было. Глубокая рана от удара саблей пересекала лицо, залитое кровью. Впрочем, руки и ноги, по-видимому, у него остались целы благодаря тому, что по какой-то счастливой, если только это слово здесь подходит, случайности мертвецы образовали над ним что-то вроде свода, предохранившего его от участи быть раздавленным. Глаза его были сомкнуты.
На кирасе у него висел серебряный крест Почетного легиона.
Бродяга сорвал его, и крест тут же исчез в одном из тайников его шинели.