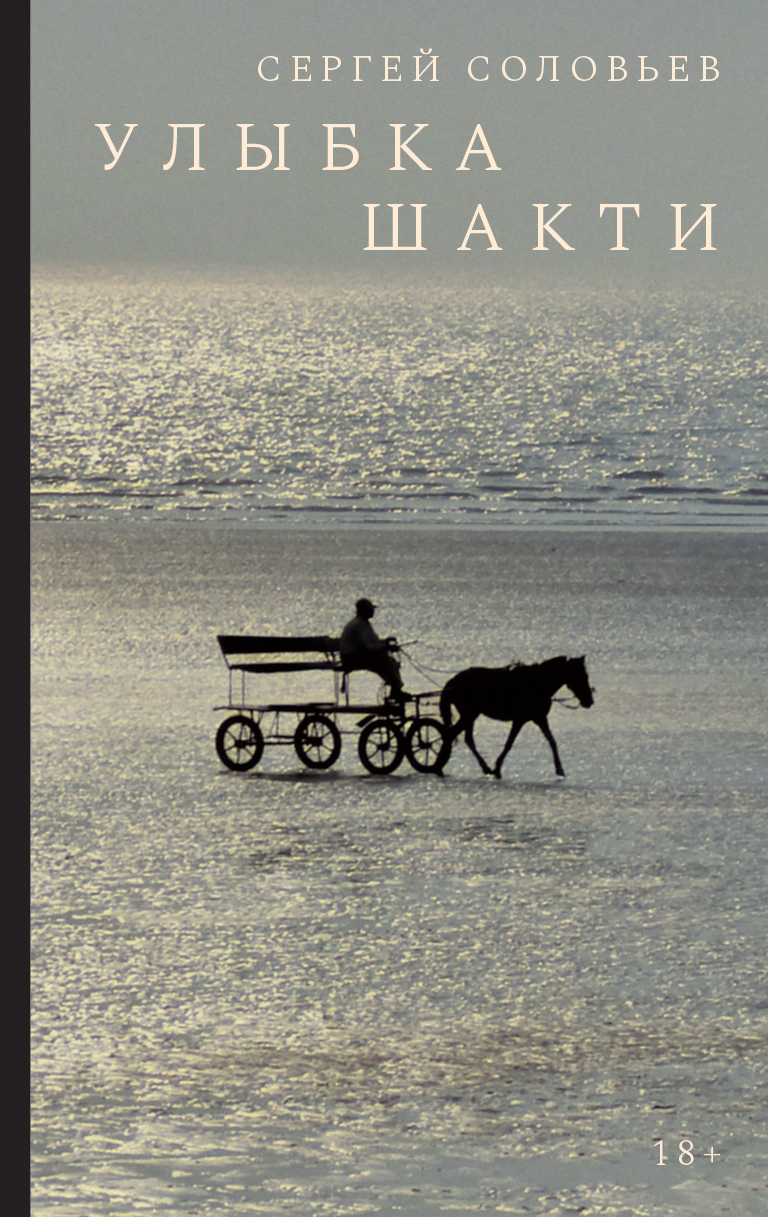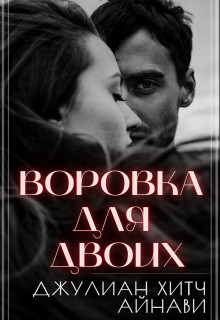исследовательскому центру и библиотеке, рассказывая, знакомя с сотрудниками, которых там, как ни странно, всего несколько человек. Заметив, что я понимаю чуть больше, чем он ожидал, ему самому становился все интересней наш разговор, где уже не нужно было исполнять казенную роль экскурсовода.
На санскрите, одном из самых совершенных и богатых языков мира, уже давно не говорят и не пишут. Но в Карнатаке есть поселок Матур, где санскрит до сих пор обиходный язык деревенских жителей. Все никак я туда не доеду, но, вспомнив, спросил Нараяну – не говорит ли кто из сотрудников библиотеки на санскрите. Пожалуйста, сказал он и открыл дверь, где в кабинете за письменным столом сидел грузный, седовласый, похожий на садху человек в больших очках, и через минуту по нашей просьбе начал читать по памяти древнюю Вишну-пурану, и так увлекся, что в окне за его спиной уже садилось солнце, а он все складывал пальцы в различные мудры в такт произносимой речи. А в другом кабинете индус помоложе и сухощавей, в белой шали, наброшенной на голое тело по диагонали, прикрыл глаза, настроился и исполнил один из гимнов Ригведы. Пока слушал, вспомнил, что не раз видел его по утрам на реке за деревней, долго и одиноко плывущего против теченья.
К моим ежедневным прогулкам по округе добавилось и посещение академии. Либо сидел в библиотеке, читал то, что было на английском, начиная с жизни и трудов Рамануджи и заканчивая историей края, либо проводил часы в разговорах с сотрудниками академии. Но главным, конечно, были беседы с Нараяной. О, как же я, выходит, истосковался по такому общению, и в родном-то языке не часто происходящему, когда о боге, пути, смерти и жизни говоришь как о самом тактильно близком, но отправляясь за этим в настоящее странствие, откуда не возвращаются. Да еще и с таким собеседником, оставляя друг друга в молчании и находя осторожными тропами слов. И улыбки. А нередко и смеха. Обходными путями, с вглядыванием, засадами – сродни джунглевым. О началах и концах мира, о месте речи в нем – даже божественной – которая, согласно священным текстам, способна доходить лишь до определенной черты, а дальше – может, но уже как бы без своей речевой амуниции, и, возвращаясь из этого неречевого опыта, приходит в себя, утрачивая его, этот опыт, и обретая речь. Об этом мы говорили в один из первых наших разговоров. Все безвозвратнее уходя в эти смутные дали и в то же время оказываясь все ближе друг к другу и настоящему времени. Которое Создатель пересоздавал до тех пор, пока сотворенное, а не Он, не сказало ему: хорошо. И о вайшнавах, которые, в отличие от шиваитов, считают, что не в майе, не в иллюзии мира дело, а в лиле, игре. Мир – игра, но она реальна. Мир реален, но это игра. Но штука в том, что нет того, кто мог бы сказать: the game is over, тем самым отделив одно от другого. Они неотделимы друг от друга, и обеим нет конца. Never, говорит Нараяна. И смеемся, идем пить чай. Но не успокаиваемся, а теребим другие дали, уже не погружаясь глубоко, а расслабленно, за чаем – о буддизме, выросшем здесь и ушедшем на восток с миром, нарисованным взрослым твердым карандашом 2-Т, и индуизме, созданном детскими мягкими цветными, с его прятками перевоплощений и теплым раем мокши. И о парампаре босой индийской жизни.
В одну из таких встреч возникла мысль, а не попробовать ли нам, совместно со специалистами академии и монахами храма, сделать несколько переводов древних индуистских текстов на русский. Переводов с опорой на звуковой строй, спанду, дыханье, которое, согласно Упанишадам, и есть речь, разлитая по телу. Не случайно письменный санскрит, доведенный до филигранного уровня, с уже созданной Панини в середине первого тысячелетия до нашей эры нормативной грамматикой, на протяжении еще многих веков пребывал не у дел, – устная традиция покрывала все поле жизни. Это как если бы, изобретя электричество, не пользоваться им, а еще веками жить ясным днем и при свечах. Или космический корабль, прозябающий в амбаре на заднем дворе. Этот живой огонь речи, который передавался из поколения в поколение, опираясь на предписания Самаведы, и попробовать воссоздать в русском. Обсуждая все это построчно с практикой распева и дыхания, при том что исполнялись ведические тексты под музыку, где в отличие от нашей двенадцатитоновой октавы, у них – двадцать два тона, с четвертьтонами и неравными промежутками между ними, и отображать эту своего рода мистерию перевода в виде некоего мультимедийного дневника, в основе которого была бы видеозапись происходящего. Нараяна воодушевился и готов бескорыстно участвовать, и со стороны сотрудников, да и монахов, думает, отказа не будет. И не раз еще в другие мои приезды и в переписке мы возвращались к этой мысли – не только с ним, но и c теми монахами, с кем особенно сдружился. Может быть, со временем эта затея и воплотится.
А пока бродил по поселку – один или в компании ладного улыбчивого крестьянина Рамануджи, с которым собирались отправиться в здешние джунгли поискать панголинов, этих многомиллионолетних созданий с похожим на доспехи окостеневшим волосяным покровом, длинным носом и маленькими ручками, которые они носят у самого лица, будто дуют в ладони или несут незримый лесной ридикюль. Или сидел, уже считая дни до отъезда, в своем ласточкином гнезде над пропастью, глядя вдаль, а если и опускал взгляд вниз, то, спохватываясь, отводил. Не из боязни высоты, этого у меня нет. А из-за гибели Женьки, с тех пор.
Однажды, за несколько лет до ухода, она прилетела в Мюнхен, меня в то время не было, но она хотела побыть с мамой, с ней они души не чаяли друг в друге, больше всего, наверно, она была в нее, бабушку по моей линии. Стояло лето, и они пошли в открытый бассейн в большом саду с горками, аттракционами и вышками для прыжков в воду. Плавала она чудесно, но с большой высоты никогда не ныряла, а тут с первого захода полезла на самую верхнюю площадку – метров десять или больше. И сиганула безоглядно, что очень в ее характере. Летела, размахивая руками, заваливаясь набок. Мама моя смотрела, обмерев. И особенно теперь отвести взгляд не может, когда вспоминает.
Никто не видел, как она летела в последний путь. Лежала на земле, еще живая, только моргала быстро-быстро. И когда в реанимацию привезли, еще жива была. Девочка, как твое имя? – спросили. Женя, ответила. И ее не стало.
Сидел, смотрел в даль, в синеватую дымку, перебирал в памяти. Был у нас с ней один случай, которому нет слов. Ей было, кажется, девятнадцать, она недавно поступила в университет на лингвистику, гуляли с ней поздним зимним вечером по Замоскворечью, зашли в клуб-квартирник «Третий путь», музыка, много народу, сидим у барной стойки, разговариваем, попиваем что-то коктейльное – одно, другое, и так хорошо на душе, и хмель такой неявный, но кажется, и ему, хмелю, так хорошо с нами – сидеть, разговаривать, чуть покачиваясь в такт музыке. Я отлучусь на минуту, говорю ей. Иду в туалет, возвращаюсь, а там, на выходе, закуток между баром и танцевальным залом, блюз звучит, тени топчутся и световые мурашки по стенам и потолку плывут. Но всего этого я уже не вижу. Потому что давно стою, обняв женщину, обнявшую меня. Я столкнулся с ней прямо на выходе, в темноте, так, что и лица не увидел. И вот мы стоим, прижавшись друг к другу, еле касаясь губами, ресницами, может, глаза у меня и прикрыты, но и не нужно видеть, потому что