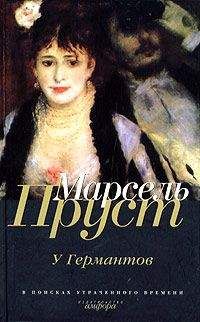Альбертина в этот раз возвращалась в Париж раньше, чем обыкновенно. Обыкновенно она приезжала только весной, так что, возбужденный уже в течение нескольких дней грозами над первыми цветами, я не отделял в получаемом мной удовольствии возвращения Альбертины от возвращения теплого времени года. Мне достаточно было узнать, что она в Париже и заходила ко мне, и она вновь представлялась мне розой на берегу моря. Не знаю хорошенько, желание ли Бальбека овладевало мной тогда, или желание Альбертины, — быть может желание Альбертины само было ленивой, вялой и неполной формой обладания Бальбеком, как будто материальное обладание вещью, поселение в городе, равнозначно духовному обладанию ею. Впрочем, даже материально, когда Альбертина не маячила больше по прихоти моего воображения на фоне морского горизонта, но неподвижно сидела возле меня, она часто казалась мне довольно убогой розой, перед которой я бы очень хотел закрыть глаза, чтобы не видеть изъянов на ее лепестках и чтобы думать, что я дышу морским воздухом.
Я могу это сказать уже здесь, хотя я не знал тогда того, чему предстояло случиться лишь впоследствии. Конечно, разумнее жертвовать жизнью ради женщин, чем ради почтовых марок, старых табакерок или даже картин и статуй. Однако примеры других коллекций должны бы научить нас, что хорошо разнообразие, хорошо иметь не одну женщину, а многих. Прелестные сочетания, образуемые молодой девушкой с морским берегом, с заплетенными косами церковной статуи, с гравюрой, со всем тем, вследствие чего мы любим в девушке, каждый раз как она появляется, очаровательную картину, — эти сочетания не очень устойчивы. Поживите подольше с женщиной и вы перестанете видеть в ней то, что внушило вам любовь к ней; правда, разъединенные элементы могут быть вновь соединены ревностью. Если после продолжительной совместной жизни я в конце концов стал видеть в Альбертине только обыкновенную женщину, то какой-нибудь ее интриги с человеком, которого она, может быть, любила в Бальбеке, было бы достаточно, чтобы вновь в ней воплотить и сплавить с нею морской берег и бушевание волн. Однако вторичные эти сочетания, не восхищая более наших глаз, болезненно и пагубно отзываются в нашем сердце. Нельзя считать желательным возобновление чуда в столь опасной форме. Но я слишком забегаю вперед. Теперь же я должен только пожалеть, что не проявил достаточно благоразумия и не обзавелся попросту коллекцией женщин, как обзаводятся коллекцией старинных зрительных трубок, которая никогда не кажется настолько богатой, чтобы в шкапу со стеклянными стенками не нашлось места для новой, более редкой трубки.
Вопреки обычному порядку своего летнего времяпрепровождения, Альбертина в этом году приехала прямо из Бальбека и вдобавок пробыла там гораздо меньше времени, чем обыкновенно. Я давно ее не видел. А так как я не знал, даже по имени, людей, у которых она бывала в Париже, то мне ничего не было известно о ней в периоды, когда она ко мне не заходила. Часто они бывали продолжительными. Затем, в один прекрасный день, внезапно показывалась Альбертина, розовые появления и молчаливые визиты которой мало меня осведомляли о том, что она могла делать в промежутках между ними, остававшихся погруженными во мрак, который глаза мои не очень стремились разглядеть.
В этот раз, однако, некоторые признаки как будто указывали, что в жизни ее случилось нечто новое. Впрочем, из них, может быть, следовало заключить только то, что в возрасте Альбертины женщины очень быстро меняются. Например, она значительно поумнела, и когда я заговорил о том, как она однажды с таким жаром настаивала на обращении: «Мой дорогой Расин», которым Софокл должен был начать свое письмо к автору «Гофолии», Альбертина первая от души рассмеялась. «Конечно, права была Андре, а я была дура, — сказала она, — Софоклу следовало написать: «Сударь». — Я ответил, что «сударь» и «милостивый государь» Андре были не менее комичны, чем «мой дорогой Расин» Альбертины или «дорогой друг» Жизели, но что глупее их всех, конечно, профессора, до сих пор заставляющие Софокла обращаться с письмом к Расину. Тут Альбертина перестала меня слушать. Она не понимала нелепости подобных тем для сочинений; ум ее приоткрылся, но еще не развернулся. В ней были новшества более привлекательные; я чувствовал в этой хорошенькой девушке, которая села у моей кровати, что-то отличное от ее прежнего облика; во взгляде и в чертах лица, выражающих своими линиями привычную волю, совершилось какое-то изменение, какое-то полуобращение, как если бы исчез в них отпор, о который я разбился в Бальбеке в тот давнишний уже вечер, когда мы составляли такую же парочку, как и теперь, только были размещены в обратном порядке: она лежала, а я сидел возле ее кровати. Желая и не решаясь удостовериться, позволит ли она теперь поцеловать себя, я каждый раз, как она вставала и собиралась уходить, просил ее посидеть еще немного. Добиться этого было не так легко, ибо хотя ей было нечего делать (иначе она давно бы уже удрала), она была особа пунктуальная, и притом не очень со мной церемонившаяся: общество мое по-видимому не доставляло ей большого удовольствия. Однако каждый раз, взглянув на часы, она вновь садилась по моей просьбе и таким образом провела со мной несколько часов, а я все еще ничего у нее не попросил; фразы, которые я ей говорил, связывались с тем, что я ей сказал в течение предшествующих часов, и не имели никакого отношения к тому, о чем я думал, чего я желал, ни в одной точке с ним не соприкасались. Ничто в такой степени, как желание, не препятствует тому, чтобы высказываемые нами вещи имели сходство с нашими мыслями. Время не терпит, и все же кажется, что мы желаем выиграть время, говоря о вещах совершенно чуждых тому, что нас занимает. Мы разговариваем, между тем как фраза, которую нам хотелось бы произнести, уже сопровождалась бы телодвижением, — даже если предположить, что для получения более живого удовольствия и утоления нашего любопытства по отношению к реакциям, которые это телодвижение вызовет, если мы не скажем ни слова и не попросим позволения, мы бы его не сделали. Конечно, я ни капельки не любил Альбертину: дочь стоявшего на дворе тумана, она могла удовлетворить лишь фантастическое желание, возбужденное во мне изменившейся погодой и являвшееся чем-то средним между желаниями, которые могут быть отчасти утолены кулинарным искусством, и желаниями монументальной скульптуры, ибо под влиянием этой погоды я мечтал сразу и о смешении моей плоти с отличной от нее теплой материей и о том, чтобы прикрепиться какой-нибудь точкой моего вытянутого тела к расходящемуся с ним телу, вроде того как тело Евы едва держалось ногами на бедре Адама, по отношению к которому она стоит почти перпендикулярно на тех романских барельефах бальбекского собора, что столь благородно и безмятежно, почти как на античном фризе, изображают сотворение женщины; Бог там везде сопровождается, точно священнослужителями, двумя ангелочками, в которых можно узнать — вроде тех крылатых и кружащихся летних созданий, которые были захвачены врасплох и пощажены зимою, — амуров Геркуланума, еще не погибших в XIII веке и совершающих по всему фасаду паперти последний свой полет, усталый, но не лишенный грации, которой можно от них ожидать.
Что же касается удовольствия, которое, утолив мое желание, избавило бы меня от этих навязчивых мыслей и которое я столь же охотно искал бы с любой хорошенькой женщиной, то если бы меня спросили, на чем — в течение этой нескончаемой болтовни, когда я скрывал от Альбертины единственную вещь, о которой думал, — основывалась моя оптимистическая гипотеза насчет уступчивости моей гостьи, я, пожалуй, ответил бы, что гипотеза эта была мне внушена (между тем как забытые нотки голоса Альбертины восстанавливали мне очертания ее личности) появлением некоторых слов, не входивших раньше в ее словарь, по крайней мере в том значении, которое она им придавала теперь. Когда она мне сказала, что Эльстир дурак, и я запротестовал:
— Вы меня не понимаете, — отвечала она с улыбкой, — я хочу сказать, что при тех обстоятельствах он был дураком, но я прекрасно знаю, что это человек в полном смысле выдающийся.
Равным образом, желая сказать о гольфе в Фонтенебло, что общество там было элегантное, она заявила:
— Это в полном смысле отбор.
По поводу одной дуэли, на которой я дрался, она сказала про моих секундантов: «Изысканные люди», а взглянув на мое лицо, призналась, что ей бы больше нравилось, если бы я «носил усы». Она дошла даже — и шансы мои показались мне тогда сильно возросшими — до употребления термина, который, я бы поклялся, был ей неизвестен в прошлом году, — сказала, что она не видела Жизели уже в течение порядочного «отрезка времени». Отсюда не следует, что Альбертина не обладала уже во время моего пребывания в Бальбеке весьма приличным запасом выражений, сразу же выдававших ее принадлежность к имеющей хорошие средства семье, запасом, который из года в год маменька предоставляет подрастающей дочке, вроде того как в торжественных случаях она дает ей собственные драгоценности. Чувствовалось, что Альбертина перестала быть ребенком, когда однажды, благодаря незнакомую даму, сделавшую ей подарок, она сказала: «Я сконфужена». Г-жа Бонтан невольно взглянула на мужа, который произнес: