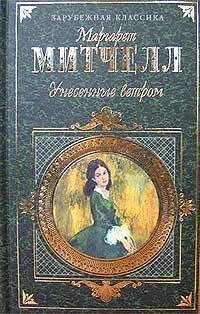Осточертела ей эта работа в госпитале. Сегодня же она скажет миссис Мерриуэзер, что Эллин прислала письмо: просит ее приехать домой погостить.
Однако толку от этого вышло мало. Достойная матрона в платье с засученными выше локтя рукавами и в широченном переднике, облегавшем ее дородную фигуру, искоса метнула на нее острый взгляд и сказала:
— Чтобы я больше не слышала от вас этого вздора, Скарлетт Гамильтон! Сегодня же напишу вашей матушке и объясню, как мы нуждаемся в вашей помощи. Не сомневаюсь, что она поймет и разрешит вам остаться. А теперь надевайте передник и живей — к доктору Миду. Ему нужна помощница делать перевязки.
«О боже! — угрюмо подумала Скарлетт. — Да в том-то и беда. Мама, конечно же, велит мне остаться здесь, а я просто погибаю от этой вони, не могу я больше! Вот будь я старухой — тогда сама командовала бы девчонками, а мной никто бы не командовал… И послала бы я всех этих старых ведьм во главе с миссис Мерриуэзер ко всем чертям!»
Да просто с души воротит от этого госпиталя, от этого зловония, вшей, немытых, искалеченных тел. Если поначалу в работе для нее была новизна, какая-то романтика, то еще год назад ей все приелось. К тому же эти раненые, испытавшие горечь отступления, были совсем не так привлекательны, как те, из первых эшелонов. Они не проявляли к ней никакого интереса. От них только одно и можно было услышать: «Как там наши бьются?» «А что предпринял сейчас старина Джо?» «Страх какой мозговитый командир старина Джо». А Скарлетт старина Джо совсем не казался таким уж мозговитым. Все, что он сумел сделать, — это позволил янки проникнуть на восемьдесят восемь миль в глубь Джорджии. Нет, эти раненые были ей совсем не симпатичны. К тому же очень уж многие из них умирали — умирали быстро, молча, слишком истощенные, чтобы бороться с гангреной, заражением крови, тифом и пневмонией, начавшимися прежде, чем они смогли добраться до Атланты и попасть в руки врача.
Дни стояли жаркие, и в отворенные окна тучами залетали мухи — жирные, ленивые мухи, истощавшие терпение раненых хуже, чем боли от ран. Волны страданий и смрада обступали Скарлетт со всех сторон, вздымались все выше и выше. Ее свеженакрахмаленное платье взмокло от пота, пока она, с тазом в руках, следовала за доктором Мидом, переходя от раненого к раненому.
Боже, как ей было гадко, какие усилия она прилагала, чтобы ее не стошнило у всех на глазах, когда блестящий нож доктора Мида вонзался в истерзанное тело! А как ужасно было слышать доносившиеся из операционной вопли, когда там производилась ампутация! Как мучительно испытывать чувство жалости и бессилия, глядя на бледные лица искалеченных людей, слышавших эти вопли и напряженно ожидавших, что доктор сейчас подойдет и скажет: «Что поделаешь, мой мальчик, руку тебе придется отнять. Да, да, я понимаю, но ты же видишь эти багровые пятна? Придется тебе с ней расстаться».
Хлороформа не хватало, и к нему приходилось прибегать лишь при самых тяжелых ампутациях; опиум тоже был на вес золота, и его давали только умирающим, чтобы облегчить им переход на тот свет, а оставшимся на этом свете облегчить страдания было нечем. И ни хинина, ни йода не было совсем. Да, Скарлетт все это осточертело, и в то утро она позавидовала Мелани, которую беременность спасала от работы в госпитале. Это была почти единственная причина, считавшаяся уважительной в глазах общества и избавлявшая от ухода за ранеными.
В полдень Скарлетт сняла передник и потихоньку улизнула из госпиталя, пока миссис Мид писала письмо под диктовку какого-то долговязого неграмотного горца. Скарлетт чувствовала, что силы ее иссякли. Достаточно уж ею помыкали. К тому же она знала, что сейчас прибудет еще состав с ранеными, и тогда ей придется работать до ночи и даже поесть, возможно, будет некогда.
Она быстро миновала два коротких квартала до Персиковой улицы, жадно и глубоко, насколько позволял туго затянутый корсет, вдыхая чистый, не отравленный смрадом воздух. На углу она остановилась, раздумывая, куда бы направиться; ей стыдно было возвратиться к тете Питти, но она твердо решила, что в госпиталь назад не пойдет, и тут вдруг увидела проезжавшего в кабриолете Ретта Батлера.
— Вы похожи сейчас на дочку старьевщика, — заметил он, одним взглядом охватив заштопанное лиловатое ситцевое платье в пятнах от пота и расплескавшейся из таза воды. Скарлетт не знала, куда деваться от смущения, и страшно обозлилась. Почему он всегда обращает внимание на дамские туалеты, да еще позволяет себе делать грубые замечания по поводу ее неряшливого вида!
— Ваше мнение меня не интересует, спуститесь-ка, помогите мне сесть и отвезите куда-нибудь, где бы меня никто не мог увидеть. Я не вернусь в госпиталь — пусть меня повесят! Не я выдумала эту войну и не вижу причины, почему я должна работать до потери сознания…
— Но это же отступничество от Нашего Священного Дела!
— Вам ли это говорить! Помогите мне сесть в кабриолет. Куда бы вы ни направлялись, вы сначала повезете меня прокатиться.
Он спрыгнул на землю, и Скарлетт внезапно подумала: как приятно видеть нормального мужчину — не безрукого, не безногого, не окривевшего, не желтого от малярии, не белого как мел от боли — крепкого, здорового мужчину. И хорошо одетого к тому же. И брюки и сюртук Ретта были из одного и того же материала и сидели на нем отлично, а не болтались как на вешалке и не были узки так, что не пошевелиться. При этом они были новые, а не какое-нибудь старье, где из прорех выглядывает грязное, волосатое голое тело. Словом, вид у Ретта был такой, точно ему неведомы никакие заботы на свете, и это само по себе казалось просто невероятным, ибо теперь все мужчины были какие-то озабоченные, встревоженные, мрачные. А смуглое лицо Ретта хранило безмятежное выражение, и когда он подсаживал Скарлетт в кабриолет, яркий, чувственный рот его с почти женственно-красивым изгибом губ тронула беззаботная улыбка.
Следом за ней он вскочил в экипаж и опустился на сиденье рядом, и она заметила, как играют мускулы под его щегольским костюмом, и снова, как всегда, ее внезапно взволновало исходившее от него ощущение недюжинной силы. Со смутным, тревожным чувством, похожим на страх, она, словно зачарованная, не могла отвести глаз от его сильных рук и плеч. Крепкое, мускулистое тело Ретта, казалось, таило в себе такую же беспощадность, как его резкий, холодный ум. И вместе с тем его отличала мягкая грация пантеры — ленивая грация хищника, нежащегося на солнце, но в любую минуту готового к смертоносному прыжку.
— Ах, вы, маленькая мошенница, — сказал Ретт и прищелкнул языком, погоняя лошадь. — Вы же, конечно, всю ночь до утра протанцевали с солдатами, дарили им розы и ленты и уверяли всех, что готовы умереть за наше Дело, а когда понадобилось перевязать двух-трех раненых и поймать двух-трех вшей, поспешили удрать.
— Вы не можете поговорить о чем-нибудь другом и подстегнуть лошадь? Не хватает еще попасться на глаза дедуле Мерриуэзеру, когда он выйдет из своей лавки. Старик не преминет, конечно, все разболтать старухе… Я хочу сказать, миссис Мерриуэзер.
Ретт легонько стегнул лошадь кнутом, и она припустилась бодрой рысью через площадь Пяти Углов к железнодорожному переезду, рассекавшему город надвое. Состав с ранеными только что подошел к платформе, и санитары с носилками бегали под палящим солнцем, перетаскивая раненых в санитарные фуры и крытые интендантские фургоны. Наблюдая за этим, Скарлетт не испытывала угрызений совести — только чувство огромного облегчения оттого, что ей удалось сбежать.
— Я устала, и меня просто тошнит от этого старого госпиталя, — сказала она, оправляя свои пышные юбки и туже завязывая под подбородком ленты шляпки. — Каждый день прибывают новые и новые раненые. И во всем виноват этот генерал Джонстон. Если бы он стоял себе и стоял под Далтоном, янки бы уже…
— Но он и стоял, глупое вы дитя. А если бы он еще продолжал стоять там, Шерман обошел бы его с флангов, поймал в мешок и уничтожил. И мы потеряли бы железную дорогу, а Джонстон за железную дорогу-то и бьется.
— Ну и что, — сказала Скарлетт, ибо военная стратегия была выше ее понимания. — Все равно это его вина. Он должен был что-нибудь сделать, и по-моему, его надо сместить. Почему он не стоит на месте и не сражается, а все отступает и отступает?
— Вы рассуждаете совсем как те, кто теперь кричит: «Голову ему с плеч долой!», потому что он не в силах совершить невозможное. Он был нашим Христом Спасителем, когда сражался под Далтоном, а к горе Кеннесоу уже стал Иудой Предателем — и это все за каких-нибудь шесть недель. А стоит ему отогнать янки назад миль на двадцать, и он опять станет Иисусом Христом. Дитя мое, у Шермана вдвое больше солдат, чем у Джонстона, и он может себе позволить потерять двух своих молодцов за каждого нашего доблестного воина. Джонстону же нельзя терять ни одного солдата. Ему позарез нужно подкрепление. А что ему дадут? «Любимчиков Джо Брауна»? Много от них будет толку!