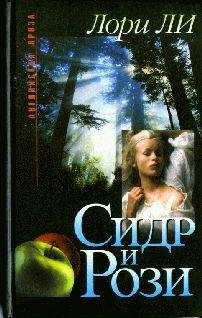И пришел великий день; день переливчатого лета, долина за окнами плыла под парусами листвы. Психопатка находилась в самом гнусном расположении духа, и Спадж Хопкинс дошел до края. Он начал корчиться за партой, вращать глазами, стучать ногами и выкрикивать: «Лучше бы она побереглась. Э… Психопатка. Лучше бы ей… Говорю вам…»
Несмотря на его странный вид, мы пока не понимали, в чем дело. Затем он отшвырнул ручку, сказал: «К чертям собачьим», поднялся и пошел к двери.
— Куда же это вы направились, молодой человек, могу я поинтересоваться? — ядовито прошипела Психопатка.
Спадж приостановился и посмотрел ей прямо в глаза.
— Не вашего ума дело.
Мы трепетали от наслаждения, наблюдая за вызовом. Спадж лениво двинулся к двери.
— Сесть немедленно! — внезапно взвизгнула Психопатка. — Я этого не потерплю!
— Ха-ха, — ответил Спадж.
Тогда Психопатка вскочила, как желтоглазая кошка, шипящая и выпускающая в ярости когти. Она догнала Спаджа в дверях и схватила за куртку. Затем последовала позорная сцена тяжелого дыхания и откровенной драки, когда учительница рвала на нем одежду. Спадж поймал ее руки в свои огромные красные кулачищи и, сопротивляясь, пытался изо всех сил удержать ее на расстоянии вытянутой руки.
— Подойдите-же кто-нибудь и помогите мне! — истерично вопила Психопатка. Но никто не шевельнулся, мы молча наблюдали. На наших глазах Спадж поднял ее и посадил на шкаф, потом вышел за дверь и исчез. Последовало мгновение тишины, затем мы дружно положили ручки и начали стучать в унисон в пол. Психопатка оставалась там, где была, наверху шкафа, колотя пятками и рыдая.
Мы ожидали, что последуют жуткие кары, но не случилось вообще ничего. Даже поджигателя беспорядков, Спаджа, не призвали к ответу — его просто оставили в покое. С этого дня Психопатка никогда не разговаривала с ним, никогда не переходила ему дорожку, никогда и ничего не запрещала ему. Он лениво громоздился за партой, колени лезли к самому подбородку, и часто насвистывал что-то себе под нос. Иногда мисс В. кидала на него пристальный взгляд, он лишь мигал. Он был волен приходить и уходить, сокращая время урока по своему желанию.
Но он больше не бунтовал, ситуация изменилась. Психопатку В. сменила новая старшая учительница — некая мисс Вардли из Бирмингама. Эта леди оказалась чем-то совершенно новым в нашей жизни. Она носила яркую стеклянную бижутерию, которая переливалась во время движения, а ее «вот так так!» звучало, как гонг. Но она боготворила пение, обожала птиц и поощряла наш интерес и к тому, и к другому. Она была много спокойнее, чем Психопатка, держала узду свободнее, но энергичнее; и после первого веселого знакомства, удивившись, мы признали ее должный авторитет.
Меня она ставила не очень-то высоко. «Толстый-и-ленивый» — вот как она меня называла. После обеда, состоящего из тушеной капусты с хлебом, я частенько задремывал за партой. «Проснись! — покрикивала она, шлепая меня по голове линейкой. — Просыпайся, и ты, и твои красные глазки!» Она также не одобрила мой хронический насморк, который для меня был таким же естественным, как дыхание. «Выйди на улицу и высморкайся как следует, и не возвращайся, пока не очистишь нос». Но я не смог бы отсморкаться ни для кого на свете, особенно если это заказано: поэтому я просто отсиживался на заборе во дворе, возмущенный, темнее черной тучи, хотя, все-таки, отсморкался лучше, чем обычно. Я бы не пошевелился вернуться в класс, если бы за мной не послали гонца. Мисс Вардли приветствовала меня с ледяной вежливостью. «Теперь немножко менее противно? Как насчет того, чтобы завтра принести носовой платок? Я уверена, мы все будем тебе признательны». Я терпел и хмурился, но потом забыл, что нужно сердиться, и вскоре уже снова спал…
К этому времени уже все мои братья ходили со мной в школу. Джек, признанный гений, давным-давно был вне какой-либо компании, не нуждаясь в помощи. Все пришли к выводу, что его способности оказались настолько выдающимися, что ему можно простить нежелание поддерживать контакты. Его оставили в покое, одного в уголке, где вспышки выдающегося ума выделяли его из массы остальных учеников сиянием глаз. Малыш Тони пришел последним, но он тоже оказался особенным, не воспринимающим ни обучение, ни авторитеты, ценя более всего проявления неистового нахальства, такого вдохновенного, что оно оставлялось без ответа. Целый день он сидел, ковыряя дыры в промокашках, сохраняя глубокий, все понимающий взгляд огромных глаз, держа острый язычок наготове, ум — неповинующимся, волю — противопоставленной всем правилам поведения. Никто и ничего не мог с ним поделать, оставалось только охать в ответ на то, что он изрекал.
И только для меня, сонной серединки между ними, оказалось трудно заслужить одобрение мисс Вардли. Я его, все-таки, завоевал, написав длинное неискреннее эссе о жизни и привычках выдр. Я никогда не видел выдры и никогда не хотел увидеть ни одной из них, но эссе купило ее. Оно было зачитано вслух и даже завоевало мне медаль, но хвастать тут совсем нечем.
Наша деревенская школа была бедной и переполненной, но, в конце концов, я полюбил ее. В ней ощущался запах реальной жизни: обуви мальчишек, волос девочек, кухонных плит и пота, фиолетовых чернил, белого мела и стружки. Нас не учили там ничему абстрактному, отвлеченному — только простой реальности фактов, четким фокусам счета, не более, чем необходимо, чтобы замерить сарай, выписать счет, прочитать предписание против болезней свиней. Все мертвые утренние часы, весь долгий полдень мы пели, сидя за партами. Прохожие слышали наши взвивающиеся к потолку замкнутой комнаты голоса аж на берегу реки: «Двенадцать-дюймов-один-фут. Три-фута-ярд. Четырнадцать-футов-вес-в-один-стоун». Мы впитывали эти цифры как истину в последней инстанции, объявленную какой-то высшей силой. Ничего не слыша, ни о чем не спрашивая, мы раскачивались в такт своему пению, вколачивая в голову золотые гвозди знаний. «Дважды-два-четыре. Бог-это-любовь. Король-наш-господин. Наш-Король-Георг. Георг-пятый…» И так есть всегда; и так было, и так будет всегда; мы не задавали вопросов; мы не слышали, что произносили, но мы никогда не смогли этого забыть.
Как сейчас, сквозь череду прошедших дней я вспоминаю класс, который я едва замечал тогда — мисс Вардли во всем великолепии за высокой партой-столом, ее длинную шею, позвякивающую стекляшками. Пышущую печку с пением красного огня; старую карту мира, потемневшую до цвета чая; засохшие полевые цветы в кувшине на подоконнике; шкаф с растрепанными книгами. Затем мальчиков и девочек, коротышек и калек; медлительных, толстых и быстрых, тощих; огромных деревенщин, ангелов и злюк — Уолт Керри, Билл Тимбрелл, Спадж Хопкинс, Слерджи Грин, Болингеры и Брауны, Бетти Глид, Клара Хогг, Сэм и Шестипенсовик, Поппи и Джо — мы были уродливыми и прекрасными, золотушными, в бородавках, со стригущим лишаем и с чесоточными коленями; мы были шумными, грубыми, нетерпеливыми, жестокими, глупыми и суеверными. Но мы вместе двигались в кулаке рока — существа мира без судьбы; мы облизывали и жевали скрипящие перья, шептались, перебрасывались шутками, хихикали от щекотки, сопели от усилий, мечтали с отсутствующим взглядом, вперенным в стену.
— О, мисс, пожалуйста, мисс, можно выйти?
Неохотный кивок позволяет. Я шумно вылетаю во взрыв свежего воздуха, на музыкальную волну птичьего пения. Все вокруг меня — свободный зеленый мир, украшенный миссис Бирт, развешивающей выстиранное белье. Я на мгновение замираю, наслаждаясь одиночеством. Прислушиваюсь к жужжанию в классном улье. Я уже не принадлежу ему, я ощущаю себя чем-то совершенно особенным, может быть, молодым королевичем, секретно помещенным сюда для знакомства с простолюдинами. В моем рождении, ясно же, заключена тайна, я чувствую себя таким уникальным, важным. Однажды, уверен, секрет откроется. Возле нашего коттеджа остановится карета с грумом и Мать (моя мама?) зарыдает. Семья застынет, торжественно и почтительно, и я уеду, чтобы занять свой трон. Я, конечно же, буду щедрым, не загоржусь; мои братья не отправятся в темницу. Я предпочту кормить их кексами и джемом и найду принцев для всех своих сестер. Им достанется щедрая доля милосердия повелителя, как бы мало они его ни заслужили…
Я возвращаюсь в класс, и мисс Вардли хмурится (она будет делать реверанс, когда я стану королем). Но все это забывается мгновенно, как только Уолт Керри наклоняется ко мне и спрашивает результат моего сложения. «Да, Уолт. Конечно, Уолт. Вот, списывай. Совсем не трудно — я уже сделал». Он списывает, дрянь такая, как будто это его суверенное право, а я должен гордиться, что помогаю ему. Затем малыш Джим Ферн, сидящий около меня, отрывается от своих погубленных листов бумаги. «Ты ведь хороший ученик! Ты и твой Джек. Хотел бы я быть хорошим учеником, как ты». Он посылает мне печальный, обожающий взгляд, и я начинаю чувствовать себя много лучше.