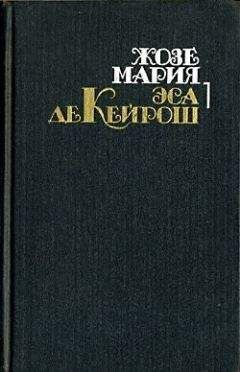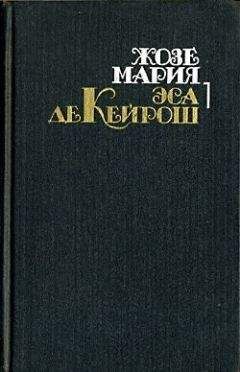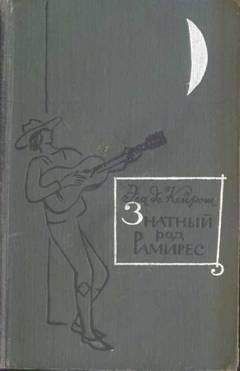— А что он?
— О, он ведет себя как истинный герой! Улыбается, говорит, что все это пустяки, но я-то вижу, он бледнее мертвеца. Такой очаровательный юноша! И надо же, чтобы именно я… Господи! Ведь рядом с ним был Аленкар… Я мог бы ранить Аленкара, моего давнего, близкого друга! Потом мы бы сами смеялись над этим. Так нет же, заряд попал в другого, да еще порученного моей опеке…
Во двор въехала карета.
— Это врач!
Педро поспешил ему навстречу.
Вскоре он возвратился, уже успокоенный. Доктор Гедес едва не рассмеялся при виде пустяковой раны на руке, причиненной зарядом дроби, да еще нескольких дробинок, застрявших в спине. Он обещал юноше, что через две недели тот вновь сможет охотиться в Тожейре, и юный князь уже наслаждается сигарой. Прелестный молодой человек! Похоже, что он проникся симпатией к папе Монфорте…
Всю эту ночь Марии не спалось: нечто похожее на смятение испытывала она при мысли, что в комнате, прямо над нею, — благородный потомок князей, заговорщик, приговоренный к смерти и раненный сегодня на охоте…
Когда Педро отправился утром в отель, дабы самолично проследить за перевозкой багажа неаполитанца, Мария послала горничную-француженку, красивую девушку из Арля, узнать, как чувствует себя его светлость, и заодно рассмотреть, каков он собой. Арлезианка вернулась и, блестя глазами от восторга, доложила сеньоре с провансальской пылкостью, что в жизни своей она не видала такого красавца! Ну просто живой Иисус Христос! Какая осанка и кожа словно мраморная! Он все еще очень бледен; и он благодарит мадам Майа за заботу; видно, что ему лучше: он лежит, опершись на подушки, и читает газету…
Больше Мария не проявляла видимого интереса к раненому. Зато Педро каждую минуту заговаривал с ней о нем, взволнованный его беспримерным положением князя-заговорщика, проникнувшись его ненавистью к Бурбонам, воодушевленный тем, что у неаполитанца он обнаружил вкусы, сходные с его собственными: ту же страсть к охоте, лошадям, охотничьим ружьям. По утрам он поднимался в комнату князя в robe-de-chambre[2] и с трубкой во рту и проводил с ним долгие часы в дружеской беседе, угощая его собственноручно приготовленным горячим грогом, что было разрешено доктором Гедесом. Педро водил к неаполитанцу своих друзей: Аленкара и Жоана да Кунью. Мария слышала, как наверху то и дело раздавались взрывы хохота. Порой там звучала виола. И старый Монфорте, подавленный величием героя, не отходил от его постели.
Даже арлезианка, горничная Марии, каждую минуту бегала наверх: то отнести кружевное полотенце, то сахарницу, которую никто не просил, или букет цветов вместе с вазой — надо же украсить спальню больного… В конце концов Мария не выдержала и с серьезным видом осведомилась у Педро, неужели кроме друзей дома, двух сиделок, папы и его самого, Педро, есть нужда в постоянном присутствии в покоях его светлости еще и ее собственной горничной?
Ну, разумеется, нет. И Педро рассмеялся, предположив, что арлезианка влюбилась в князя. Что ж, да будет благосклонна к нему Венера! Неаполитанец тоже нашел это весьма пикантным: un tres joli brin de femme[3] — так он сказал.
Прекрасное лицо Марии побледнело от гнева. Она была возмущена подобным дурновкусием, грубостью, бесстыдством! Педро поступил безрассудно, поместив в их доме чужестранца, беглеца, искателя приключений! И эти ежедневные увеселения наверху, за горячим грогом, под звуки гитары, — никто не подумал, что шум раздражает ее нервы, а она и так слаба после болезни! Как только его светлость будет в силах расположиться на подушках в карете, она желает, чтобы он покинул их дом и переехал в отель.
— Он переедет! Господи! Разумеется, переедет!
— Вот и хорошо.
И с арлезианкой Мария, по-видимому, тоже обошлась сурово: Педро, столкнувшись с девушкой в коридоре, заметил, как она утирала передником заплаканные глаза.
Однако спустя несколько дней неаполитанец, уже почти оправившись, сам пожелал возвратиться в отель, где жил ранее. Он так и не увиделся с Марией, но в знак признательности за ее гостеприимство послал ей прекрасный букет и с любезностью владетельного мецената эпохи Возрождения вложил в него итальянский сонет, благоухавший не менее самих цветов: в сонете он сравнивал Марию со знатной сирийской дамой, напоившей из своего кувшина раненого арабского рыцаря, распростертого на дороге под палящим солнцем; и еще он сравнивал ее с дантовской Беатриче.
Все нашли сонет необычайно изысканным, а Аленкар даже усмотрел в нем нечто байроническое.
Неделю спустя, на soiree в честь крестин Карлоса Эдуардо, неаполитанец был в числе приглашенных и очаровал все общество. Он и в самом деле был неотразим — сложенный, как Аполлон, и бледностью походивший на античную мраморную статую; а его небольшая курчавая борода и длинные каштановые волосы — таким кудрям с золотистым отливом могла бы позавидовать любая женщина, — разделенные на пряди, и вправду, как говорила арлезианка, придавали ему сходство с Христом.
Он прошелся в контрдансе с Марией и больше не танцевал, с задумчивым и несколько надменным видом озирая залу. Но его красота, его тайна и даже его имя — Танкредо — невольно притягивали всех, и множество женских сердец трепетало, когда он, слегка опершись о косяк, с цилиндром в руке и меланхолическим выражением лица, источая трагическое очарование приговоренного к смерти изгнанника, обволакивал присутствующих сумрачной томностью своих бархатных глаз. Маркиза де Алвенга, дабы получше рассмотреть неаполитанца, взяла под руку Педро и принялась прохаживаться с ним поблизости, разглядывая князя в золотой лорнет, словно мраморную статую в музее.
— Боже, как он восхитителен! — воскликнула она. — Ну просто картинка!.. И вы с ним друзья, Педро, не правда ли?
— Мы с ним как братья, сеньора.
На этом же soiree Виласа сообщил Педро, что его отец назавтра возвращается в Бенфику. И Педро, когда они остались с Марией наедине, заговорил с ней о предстоящей встрече с отцом, которую они многократно обсуждали.
Однако Мария вдруг воспротивилась их прежним намерениям, и доводы ее были столь же неожиданными, сколь настоятельными. Она так много размышляла об этом! И теперь готова признать, что одной из причин папиной несговорчивости — последнее время Мария неукоснительно называла свекра папой, — несомненно, мог послужить их образ жизни…
— Но послушай, милая, — начал Педро, — разве у нас в доме устраиваются оргии? Что дурного в том, что порой мы приглашаем к себе друзей?..
Да, да, разумеется… И все же отныне их жизнь должна протекать еще более тихо и замкнуто. И для детей это полезнее. Она хочет, чтобы папа имел возможность убедиться в происшедшей перемене, и тогда легче будет достичь с ним примирения, и оно будет более прочным.
— Пусть пройдет два-три месяца… Он успеет удостовериться в нашей достойной жизни, и тогда я предстану перед ним, не сомневайся. И хорошо бы приурочить это ко времени, когда мой отец уедет на воды в Пиренеи. Мой отец, бедняжка, боится твоего отца… Разве ты не думаешь, милый, что так будет лучше?
— Ты — ангел, — отвечал Педро, целуя Марии руки.
И в самом деле, Марию словно подменили. Она перестала давать soirees. Все вечера проводила у себя наверху, довольствуясь обществом самых близких друзей, имевших доступ в ее голубой будуар. Она больше не курила, не вспоминала про бильярд и, одетая в темное платье, с цветком в волосах, прилежно работала крючком, сидя возле лампы. Или играла в четыре руки со стариком Казоти. Аленкар, не желая отстать от своей дамы, также впал в серьезность и декламировал переводы из Клопштока. Говорили и о политике; Мария ратовала за прогресс.
И каждый вечер там неизменно присутствовал Танкредо, красивый и томный; он набрасывал рисунок какого-нибудь цветка для Марииной вышивки или наигрывал на гитаре неаполитанские песни. Все им восхищались, но более всех старик Монфорте, полузадушенный своим непомерно большим галстуком. Он часами не сводил с князя умиленного взора. Порой это созерцание прерывалось тем, что старик поднимался со своего места и, приблизившись к неаполитанцу, склонялся над ним и принимался поглаживать его и словно бы обнюхивал, приговаривая на своем портовом французском:
— Ca aller bien… Hein? Beaucoup bien…[4] Уважаю…
Эти привычные порывы обожания явно приходились по душе Марии, поскольку она в эти минуты дарила отца одной из своих самых прелестных улыбок или подходила к нему и целовала его в лоб.
Дни Мария посвящала серьезным занятиям. Хлопотала об устройстве благотворительного общества: оно должно было распределять зимой среди нуждающихся семей теплую одежду; и Мария в гостиной Арройоса возглавляла собрания дам-учредительниц. Она посещала бедняков и зачастила в церковь, куда отправлялась пешком, вся в черном, с лицом, закрытым густой вуалью.