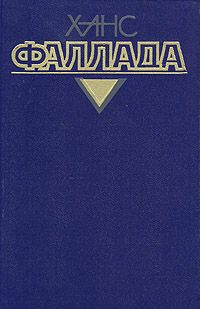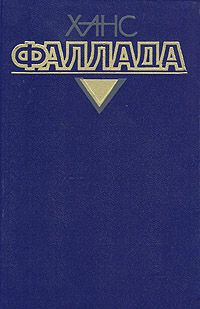— Да, картины… — говорит он и уходит.
Жена, ожидающая от него ребенка, лежит в кровати, и теперь она смотрит пристально на картины. Теперь она видит в них его истинный образ. Его быстрота, его веселость, его кроткая серьезность — все ушло! Ушло! Ушло ли? Вот они здесь, вознесенные на высоту, в той осиянности, которую жизни дарит сама вечность.
Есть среди них одна, написанная незадолго до его «выздоровления», последняя вещь, законченная им перед тем, как он отбросил кисть. Он велел жене сесть у окна, окно было раскрыто, она сидела неподвижная и тихая, как едва ли сидела когда-нибудь в своей хлопотливой жизни. Это ее изображение, это она в ту пору, когда еще была с ним, когда она что-то для него еще значила. Ничего особенного: молодая женщина у окна, ожидающая — может быть, ожидающая, а за окном шумит мир. Молодая женщина у окна, ее портрет, лучшая из его вещей!
Написанная им, когда он был еще подле тебя. Где он теперь? В шумном мире утро, ясное, полное солнечного света (но для тебя солнце померкло), а мужа вносят в дом, извалявшегося в грязи — умные пальцы скрючены, подбородок обмяк, на виске сгусток крови. О, они ей очень соболезнуют, эти господа из полиции и уголовного розыска. Произошло это на улице, название которой ей, конечно, ничего не скажет. Несчастный случай — да, случай. Лучше молчать!
Беги же, время, спеши! Скоро явится сын. Отец взошел сияющей звездой, долго кротко светил и угас. Он угас, мы ждем сына!
Малый свет в ночи, ничтожная искра, негреющий огонь. Но с ним мы не так одиноки.
Женщина у окна, старая женщина, оборачивается. Картина здесь. Конечно, все так, как и должно быть: молодая женщина у окна, чего-то ожидающая.
Старая женщина кладет окурок сигары в пепельницу.
— Мне в самом деле кажется, что глупый мальчик может сегодня прийти! Уж пора бы!
7. ИГРОКУ НЕ ПОВЕЗЛО
Туманша, законная супруга каменщика Вильгельма Тумана, в свисающем платье, рыхлая, дряблая, с рыхло-дряблым лицом, в котором, однако, главенствует черта кислой строгости — Туманша шлепает с неизменной ночной вазой по коридору в уборную за поворотом, на пол-лестницы ниже — уборную на три стульчака. Фрау Туман, без излишней щепетильности готовая принять под свой кров самую ославленную девицу с сожителем (сейчас в комнате против Пагелей проживает сама Ида-аристократка с Александерплац), — фрау Туман весьма щепетильна в вопросах санитарии и особенно по части уборной.
— Сейчас, милочка, открыли этих самых бакцилов. Лучше бы, конечно, о них и не думать, но ведь каждый ходит и ходит по нужде, а публика тут у нас не сказать, чтобы самая благородная, иной раз придешь в клозет, так не продохнуть, и кто знает, что только там не кишит, а раз я увидела черного жука, и он посмотрел на меня до того грозно… Ну, что вы, как же так, чтобы я, да не знала клопов и прочую разную домашнюю живность! Вы это кому другому расскажите, милочка, а я да клопы — мы, можно сказать, вместе росли. Но с тех пор как открыли этих самых вредных козявок, я всегда говорю своему Виллему: «Ночной горшок — он горшок и есть»; и еще: «Здоровье — это полжизни!» — «Биллем, — говорю я ему, — ты б не останавливался без разбору где придется. Эти козявки набросятся на тебя, как тигры, ты и оглянуться не успеешь, как принесешь в дом целую микрокосметику!» Но, должна вам сказать, милочка, смешно, право, устроен человек! С тех пор как я стала пользоваться горшком, я только и знаю, что бегаю. Я не хочу вам жаловаться, нет, но только удивительное дело! Я знаю, наш молодой кавалер, у которого эта маленькая, бледная брюнеточка, — она ему не жена, но воображает, что будет, а для иной женщины воображать такие вещи слаще, чем нам с вами крендель от Гильбриха, так он меня прозвал «мадам Горшок». Только она ему запрещает, — все-таки сознательная. Но пускай его говорит на здоровье! Ведь он почему так говорит? Потому что ему надо подурачиться. А почему ему надо подурачиться? Потому что молод! Когда человек молод, он ни во что не верит: ни в попов (как, впрочем, и я в них не верю), ни в бакцилов. А что потом получается? Как я с моим горшком, так и они бегают, значит, по амбулаториям, а с чем, я докладывать вам не должна, мы же это обе знаем, милочка, и некоторые уверяют, что это-де пустячок, вроде насморка. А потом они, даром что глупые, берутся за ум, а насчет насморка… так им хочется, чтобы можно было чихать, а рядом был бы человек, который говорил бы им «будьте здоровы». Но здоровье-то пиши пропало, потому я лучше буду бегать с горшком…
Итак, эта самая Туманша, дрябло-рыхлая, но страдающая повышенной кислотностью, что сразу видно по ее лицу, шлепает со своим горшком по коридору.
Дверь в комнату Пагеля открывается, и на пороге показывается Вольфганг Пагель, высокий, широкоплечий и узкобедрый, со светлым веселым лицом, в кителе защитного цвета с пропущенной красной ниткой — материя добротная, даже сейчас после пяти лет носки у нее приличный вид, она только отливает мягким серебристым лоском, как бывает у листьев липы…
— С добрым утром, фрау Туман, — говорит он, вполне довольный. — Как же будет у нас с небольшим недоразумением насчет кофе?
— Ах, опять вы! — бросает раздраженно фрау Туман и, отвернувшись, норовит прошмыгнуть мимо. — Вы же видите, я занята!
— О, разумеется, извините, фрау Туман. Я просто так — спросил между прочим, потому что проголодался. Мы с удовольствием подождем. Еще же нет одиннадцати.
— Только не вздумайте прождать до двенадцати, — напомнила Туманша, стоя в дверях на лестницу предостерегающей богиней судьбы, и сосуд в ее руке закачался. — В двенадцать объявят новый курс, а старик в зеленной сказал, что доллар шибко взлетит и Берлин опять полетит кувырком. Так что придется вам как миленькому выложить мне за квартиру лишний миллион марок. А кофею теперь без наличных вовсе не будет.
Дверь за хозяйкой захлопнулась, приговор объявлен, Вольфганг оборачивается лицом к комнате и говорит в раздумчивой нерешительности:
— Она, собственно, права, Петер. Раньше двенадцати я, конечно, не могу уластить ее, чтобы она дала нам кофе, и если доллар в самом деле подскочит… что ты скажешь?!
Но он не ждет ее ответа и добавляет полусмущенно:
— Ложись в постельку, я сейчас снесу вещи в ссудную кассу, к «дяде». Через двадцать минут, самое позднее через полчаса, я буду снова здесь, и мы с тобой чудно позавтракаем булочками и ливерной колбасой, ты в постельке, я с краюшка, — что ты скажешь, Петер?
— Ах, Вольфи, — говорит она тихо, и глаза у нее становятся очень большими. — Как раз сегодня…
Хотя сегодня утром они еще об этом ни полусловом не обмолвились, он старается сделать вид, будто не понял ее. Немного виновато он говорит:
— Да, я знаю, так глупо получилось. Но, право, тут нет моей вины. Почти что нет. Этой ночью все шло шиворот-навыворот. Я был уже в большом выигрыше, но вдруг пришла мне сумасшедшая мысль, что теперь должно выйти зеро. Я и сам сейчас не понимаю…
Он замолчал. Он видел перед собой игорный стол, то есть просто захватанную зеленую скатерть, разостланную на самом обыкновенном обеденном столе в столовой добропорядочного буржуазного дома. В углу громоздко высится с башенками, с резными рыцарями и дамами, с шишечками и львиными пастями буфет. Потому что игорные клубы, игорные притоны тех дней, вечно скрываясь от уголовного розыска, вели кочевую жизнь. Как только запахнет паленым на старом месте, снималась на ночь у какого-нибудь обнищалого служащего столовая или гостиная. «Только на несколько ночных часов — ведь вам она в это время не нужна. Можете спокойно лежать в постели и спать; а что мы там делаем, вас не касается!»
Так и получалось, что у какого-нибудь бухгалтера или начальника канцелярии его довоенная гостиная, обстановку которой подбирала еще покойница-теща, превращалась с одиннадцати часов вечера в место сборища мужчин в смокингах, пиджаках или блузах и дам в вечерних туалетах. На тихой, невозмутимо-благопристойной улице шныряли мошенники-зазывалы и жучки, они заманивали подходящую публику: дядюшек из провинции, накачавшихся кутил, не знающих, где бы закончить вечер; биржевиков, которым мало каждодневного валютного столпотворения. Швейцар, получив свою мзду, крепко спал, дверь парадной могла хлопать сколько угодно. Внизу у входа, в благопристойном вестибюле с позеленевшими латунными крюками вешалок, стоял столик и на нем большой ящик с фишками, которые выдавал бородатый и печальный с виду великан, типичный вахмистр в отставке. На двери ватерклозета висел кусок картона с надписью: «Здесь!» Разговаривали только шепотом, было в интересах каждого, чтобы никто в доме «ничего такого» не заметил. И напитки здесь не подавались. Не нужно пьяных — от них лишний шум. Только игра, она достаточно опьяняет.
Тишина была такая, что уже в передней вы слышали жужжание шарика. Позади крупье стояли два господина в пиджачных тройках, готовые в любое время вмешаться и унять всякий спор грозным предложением покинуть зал, выйти из игры. Крупье во фраке. Но все трое походят друг на друга, он и оба его помощника — пусть этот толст, а тот худ, этот черен, а тот белокур. У всех у них холодные, быстрые глаза, горбатые злые носы, тонкие губы. Они почти не говорят друг с другом, им довольно взглянуть или в крайнем случае повести плечом. Они злы, жадны — авантюристы, рыцари большой дороги, каторжники, воры — кто их знает! Немыслимо вообразить, что у них есть какая-то личная жизнь, жена, дети, протягивающие им ручонки и говорящие «с добрым утром». Не представишь, каковы они наедине с собой когда встают с постели, когда, бреясь, смотрятся в зеркало. Кажется, их предназначение — стоять у игорного стола злыми, жадными, холодными. Три года тому назад их еще не было, через год их больше не будет. Жизнь выплеснула их на поверхность, когда они понадобились; она снова унесет их прочь, неведомо куда, как только минет их пора, но в запасе у жизни они есть, у жизни есть все, что может понадобиться.