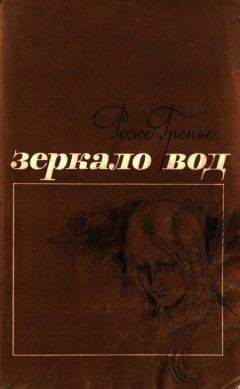Старуха печально трясет головой. Под широкополой шляпой из черной выцветшей соломки — ни дать ни взять — мертвая голова, смешно приукрашенная белыми кудряшками.
— Очень скучно стариться, мосье Жуаньо. Особенно таким, как мы: семьдесят два года, одинокие, вдали от родины… Присядьте на минутку. Не часто нам случается гостя принимать. Ночами, верите ли, иной раз страх на меня находит… Когда один из нас помрет, положим — я, что с ним-то станется, когда никого при нем не будет?.. Уж я вам скажу, мосье Жуаньо, — он теперь больше и по своей надобности сам ходить не может.
Старик, не шевелясь, зажав палку между острыми коленками, не сводит с почтальона светло-водянистого взгляда, в котором читаются стыд и страх.
— Отчего же вы не возьмете прислугу?
Старухин рот кривится.
— Спасибо! Пришлось бы ей жалованье платить! Чтобы то немногое, что получаем еще от сдачи половины сада и виноградника в Буа-Лоран, пошло в чужой карман? Хорошее дело!.. Ах, мой дорогой мосье Жуаньо, мы часто говорим об этом между собой: вот что нужно бы сделать, если бы мы могли еще расхаживать туда и сюда, — найти бы хорошую девушку, надежную и не потаскуху. Сказать бы ей: «Приходите жить с нами; без всякой платы, конечно; а после нашей смерти оставим вам все: дом с садом и виноградник в Буа-Лоран, да наши маленькие сбережения в придачу!..» — Она стискивает сухие свои руки и вздыхает: — Вот что было бы нужно, мосье Жуаньо. Да теперь уж поздно. И найти такую девушку, это сейчас то же самое, что мне вдеть нитку в иголку без очков…
«Господи Боже мой! — думает Жуаньо. — Дом, сад… Виноградник…»
Он выехал из деревни и под неумолимым солнцем работает педалями в направлении к Фурш, к лавке мадам Фламар.
Лежа на краю дороги, девочка сторожит козу, которая пасется вдоль ограды. Это дочь Морисоты, как именуют жену чахоточного Морисо. Она хорошо сложена для своих пятнадцати лет; это заметно и под рваным запоном, который обтягивает ее нарождающуюся грудь.
Жуаньо радуется поводу передохнуть.
— Ну, как у тебя дома дела, девчонка?
Она следила за его приближением, не шевелясь. Ее черные, слипшиеся от пота спутанные волосы, блестящие глаза под длинными ресницами и смуглая кожа придают ей сходство с юной цыганкой.
Она пожимает плечами:
— Нынче опять его рвало кровью.
Почтальон смотрит, как спаниели обнюхивают у девочки икры.
— Это ты, чтобы псов подманивать или комаров угощать, ходилки свои нам этак показываешь?
Она подбирает ноги, натягивает немножко юбку на голые колени и посмеивается:
— А вам-то что за дело до этого, вам-то?
— Эх, язычок проклятый! — игриво говорит Жуаньо. — На тебе, наверное, даже и штанов-то нет… Стоило бы покрепче настегать тебя по заду, маленькая потаскушка!
Она уж на ногах и проворно отскакивает в сторону:
— Как бы не так!
Вокруг нее насыщенный зноем воздух дрожит, как над огнями, зажженными в дневную пору.
Почтальон щурит глаза:
— Попадись ты мне только одна в лесу, милочка моя, — там небось так не пофорсишь, как на большой дороге!
Он смеется, обтирает себе лоб, садится на велосипед и едет дальше со своими мыслями: дом, сад, виноградник… Особенно этот негодяй-виноградник так и лезет в голову — прехорошенький кусок земли, расположенный как нельзя лучше на солнцепеке и как раз бок о бок с его собственным клочком виноградника… Вдруг он резко напрягает поджилки:
— Морисота! Вот оно что!
Он чуть не теряет равновесия, выправляется и лупит дальше насвистывая.
Он не чувствует больше солнца, которое палит ему загривок. За ним собаки бегут рысцой в спиралях пыли, надолго повисающих над дорогой. Он теперь в открытом поле. Ни одной живой души. Только шелковистый шепот колес да собачья одышка нарушают тишину. Справа недавно сжатая нива золотится на солнце; слева ряды свекловицы и ни одного деревца. Тучные коренья, похожие на вылезающие из десен зубы, будто рвутся вон из сухой земли, где им душно. Выводок молодых куропаток поднимается внезапно с шумом и опускается в тени ближайшей ограды, пролетев для сбережения сил над самой землей.
Вместо того чтобы ехать в Фурш, Жуаньо сворачивает на полевую тропку.
Лачуга Морисо затерялась среди пашен. Когда подбегают собаки, женщина лет тридцати, темноволосая и крепкая, занятая чисткой котелка у колодца, выпрямляется и оборачивается.
— А он где? — кричит Жуаньо. — Можно его повидать? — Он понижает голос: — Мне надо сказать тебе два слова, Морисота…
Одна комната, вся закоптелая и пропахшая кислятиной. В алькове, на соломенном матраце умирающий сидит, выпрямив туловище, подпертое старыми набитыми сеном мешками. Ни буфета, ни стульев: одна лавка перед опрокинутым ящиком, заменяющим стол; а в углу другой соломенный матрац — для цыганочки. В открытое окно проникает тяжелый запах сварившейся и переварившейся на солнце навозной жижи. Собаки обходят всю комнату, обнюхивают тело и без постороннего понуждения выбегают в дверь.
— Не лучше? — спрашивает почтальон.
— Лучше! — произносит Морисо голосом, который гудит точно под сводами Он бросает на жену вызывающий взгляд. — Завтра встану!
Женщина и мужчина оглядывают друг друга злобно, словно они наедине.
— Только затем и хочет встать, пачкун, чтобы напиться, — высвистывает Морисота. — Да тут-то ни капли сивухи больше нет. А чтобы в деревню ему сходить, насчет этого я спокойна: десять раз подохнет, пока до кабака доберется.
Морисо икает и стискивает челюсти. Он пригвожден к своему месту и бессилен. Роли переменились. От этой самки, которую всего каких-нибудь полтора месяца назад он осыпал ударами — просто так, ни за что, ради собственного удовольствия, — от нее теперь он сам в полной зависимости. Его душит бешенство — неподвижное бешенство зверя в капкане.
Их в этом краю знают с незапамятных времен: оба они — питомцы общественной благотворительности, воспитанные где-то в окрестностях. Окружной инспектор их поженил. Она — служанка в харчевне, в семнадцать лет беременная; он — чернорабочий и браконьер, внушивший всеобщую к себе неприязнь и страх, часто безработный: мало охотников нанимать найденыша, незаконнорожденного. От нужды он, пока был здоров, соглашался на тяжкую работу и на самую низкую оплату. А утешался, пропивая вечерами получку у Боса. Когда посетитель нагружался, а кошелек его, соответственно, разгружался, кабатчик выкидывал его за дверь. Морисо возвращался к себе в лачугу, спотыкаясь и царапаясь о заборы. Чтобы сорвать гнев — или стыд, — он стаскивал жену с постели и принимался ее колотить. Потом, достаточно намяв ей бока, он заваливал ее на матрац.
Девчонка спросонья щелкала зубами от ненависти и страха. Зачастую и на ее долю выпадали тумаки. А за последние месяцы — и ласки. Мать — лишь бы оставили ее в покое — укладывалась на свое место и не препятствовала.
— Ты ему не дочь, — говорила она, — а не то, я бы его упрятала.
Жуаньо, ведя велосипед за руль, идет серединой тропинки. Он ступает большими шагами и объясняет, в чем дело. Рядом с ним молча семенит Морисота.
— Это слишком хорошо, чтобы могло быть правдой, — лепечет она наконец.
— Не прикидывайся дурой! — ворчит Жуаньо. — И дай мне самому обделать все дело. Только — поняла? — услуга за услугу. Если я устрою тебя к «бельгийцам», ты подпишешь мне бумагу. И когда к тебе перейдут по наследству все сокровища, я получаю виноградник.
Они добрались до большой дороги. Она стоит перед ним, прочно уставив ноги в деревянных башмаках. На ее рубахе подмышками проступили большие мокрые пятна. Почтальон ласкает глазами широкие бедра, крепко пришвартованные груди. Услуга за услугу. Все это сулит многое. Теперь вся суть в том, чтобы сделать дело.
Он кличет собак, нюхает воздух и — хоть небо не омрачено еще ни единой тучкой — говорит:
— Пахнет грозой…
С головой в огне, шатаясь от надежд, идет она обратно по тропинке. Пускай себе умирающий зовет ее, пускай выхаркивает на мешки с сеном свои легкие! Только бы узнать ей способ прикончить его, чтобы не тянулось…
Лавка в Фурш «Вина и ликеры» помещается в низеньком домике на перекрестке трех дорог, посреди лесной вырубки.
Все на запоре. Почтальон приставляет велосипед к стене перед окном и стучит в ставню:
— Мадам Фламар!
Внутри легкая суматоха. Потом немного запыхавшийся голос кричит:
— Сейчас…
Ключ скрежещет, дверь отворяется:
— Ах, это вы, мосье Жуаньо! Заходите… Как раз кончаю одеваться.
Она в шелковой нижней юбке и застегивает на жертвенно обнаженной груди последние пуговки щедро вырезанного розового корсажа.
В зале прохладно, почти темно. Носятся кисловатые испарения лимонада и духов. Жуаньо насторожил ухо: ему слышится, будто осторожно затворяется задняя дверь, которая выходит в лес.