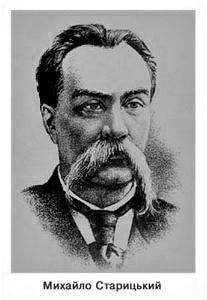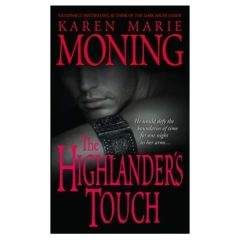Галя жадно с тоской смотрела на эту картину, словно желая остановить потухающий день. Солнечный луч вдруг вспыхнул на золотом кресте и через мгновенье сразу погас; все потемнело.
Галя отвернулась от окна и опять легла на подушку. А Оксана убирала уже праздничный стол: покрыла его белой скатертью, декорировала по краям зеленью, барвинком и начала уставлять на нем яства.
Послышался густой металлический звук далекого колокола; за ним через несколько мгновений донесся дрожащий второй, и, наконец, с ближайшей церкви раздался благовест. Дед встал, перекрестился и начал собираться на всенощную. Гриць тоже засуетился искать свою шапку.
— Гриць, ты не ходи теперь, с вечера, — остановила его мать, — не выстоишь всю ночь, а лучше вот ляжь дома, сосни, а я тебя разбужу, когда дочитают до Христа… Ведь я дома останусь, так и разбужу.
— Оксана, вы для меня остаетесь? — отозвалась Галя. — И не думайте! Мне, слава богу, легче… Я здесь с Грицем дождусь великой минуты… Только вот воды приготовьте, а то мне хорошо…
— Я, мама, возле тети не засну, буду лучше сидеть и ждать, а то не разбудите, как и торик, — надул губы Гриць.
— Да как же вы одни… — пробовала слабо возразить Оксана; ей, видимо, было жаль и пропустить такое торжество, и оставить больную.
— Нет, нет, идите… Мы с Грицем отлично тут… мне лучше…
— Коли лучше, хвала богу, то, может быть, и вправду… тут недалечко… дед в Лавру пойдут, а я в свою приходскую, — радовалась Оксана. — Если не дай бог что, так Гриць меня вызовет; ты знаешь ведь, где наша церковь?
— Еще бы не знал, знаю! — даже обиделся Гриць. — Зараз за дубильнею, направо.
— Так, так, ты у меня молодец, — поцеловала сынка своего молодица. — Так ты прибеги на бабинец — я буду с краю стоять, у дверей.
— Добре, — кивнул головой Гриць и, подбежав к Гале, начал тереться возле подушек. — А тетя мне про красное яичко расскажет и про рахманский великдень…
— Расскажу, расскажу… — погладила она его по голове, — только мне чего-то холодно сделалось… руки и ноги окоченели, — обратилась она к Оксане.
— Еще бы не холодно, — всполошилась та, — окно до сих пор отворено! — и она бросилась запереть его и укрыть лучше Галю, а потом торопливо стала одеваться в приготовленный праздничный наряд.
Когда Оксана и дед вышли из хаты, Галя, опершись на локоть, посмотрела с грустной улыбкой на стол. По ее бледной, дрожавшей при трепетном свете щеке медленно скатилась слеза и беззвучно упала на землю.
Гриць смирно и тихо все ждал, но наконец не вытерпел:
— А про яичко, тетя?
— Про яичко? — вздрогнула Галя, оторвавшись от глубоких, неразрешенных вопросов и дум. — Расскажу, расскажу, родненький мой, — и она прижала к себе его головку.
— Далеко, далеко, — начала она тихо и с частыми передышками и паузами, — за семью морями и за семью горами есть долина, а в той долине никогда не бывает ни морозу, ни снегу, а вечно цветут деревья и зеленеют луга, там растет сад, такой славный, такой роскошный, какого нет нигде на земле.
Хотя Галя говорила и тихо, с большими передышками, остановками, но речь до того утомила ее, что больше не имела силы не то что продолжать рассказ, а ни шевельнуться, ни вздохнуть, кроме того, видимо, у нее начался жар — губы сохли, внутри жгло… Она простонала слабо и попросила Гриця подать ей железную кружку, но тот давно спал безмятежным сном. Галя собрала последние силы, потянулась к окну, где стояла кружка, и, расплескав ее наполовину, отпила глотка три холодной воды. В ушах у нее поднялся какой-то звон, и она бессильно упала на подушку, но и сквозь закрытые веки она видела ясно, как светлица начинала вертеться, сначала медленно, а потом скорее и скорее… В вихре водоворота показалось Гале, что она погружается в какие-то горячие, кровавые волны, которые жгут ей мозг, забивают удушьем дыхание… Но вот мутные воды как будто немного светлеют и превращаются в прозрачную мглу, среди которой словно плавает, то приближаясь, то удаляясь, знакомая тень.
— Бедная ты, несчастная! — шепчут его побелевшие губы. — Зачем ты, слабая и кроткая, оторвалась от охранявшего тебя крова и бросилась на трудный путь, в бурю? Вот она тебя и сломила, и лежишь ты, беззащитная, и несешь не заслуженную, а чужую кару… Прости и меня, виноватого перед тобою, — у тебя ведь всепрощающая душа!
Галю давят слезы, ей жаль этого бледного, изможденного человека; прежнее чувство симпатии шевельнулось в ее источенном муками сердце; она хочет даже протянуть к нему руку, но боится.
Галя крикнула от боли и очнулась, но сознание медленно вступало в свои права: впечатления внешнего мира едва проникали к ней и снова подергивались туманом.
Галя смутно узнавала хату; перед ее воспаленными глазами мелькали и окна, и убранный стол, и печь… Но она не могла, как ни силилась, фиксировать их форм: они то удлинялись, то съеживались и принимали фантастические очертания. Галя чувствовала страшную муку, — ей казалось, что она брошена в какую-то огненную печь; раскаленный воздух жжет ей все внутренности, пепелит мозг и не дает силы собрать разбежавшихся мыслей. Пол горит, кровать колеблется, изголовье понижается больше и больше. Галя инстинктивно взмахнула рукой, хотела удержаться за Гриця, но тот лежал уже на полу, раскинувшись привольно на скатившейся к нему подушке.
Спасенья нет! Она пробует крикнуть, позвать кого-либо помощь, но железная рука схватила ее за горло и прижала к кровати… Галя присматривается к владельцу ее — она видела где-то это лицо, желтое, с маленькими бачками, с приторной и ядовитой улыбкой, с злобными оловянного цвета глазами и портфелем в руках… Галя мечется, хочет вырваться, но бачки только хихикают и бьют ее портфелем по голове.
Все покрывается непроницаемым мраком…
Сквозь шум, похожий на падение воды, ей слышится говор и спор, сначала бесформенный, непонятный, а потом… вдруг обращается кто-то к ней:
— Для чего вы у себя держите написанные на малорусском наречии книги?
— Для того, что люблю их читать, — отвечает просто и искренно Галя, — люблю родину…
— А отечество? При чем же останется отечественная литература? — что-то черное вытянулось до потолка вопросительным знаком.
— Любовь к родине не исключает любви к отечеству, а даже обусловливает ее, — преодолевши страшную боль, отвечает Галя и ощущает у себя на шее какое-то кольцо, холодное, мягкое… оно сжимает ей горло.
Гадливый ужас поднял ее с кровати: она схватилась обеими руками за кольцо, силится оторвать, но оно сжимается все сильней и сильней, а по рукам скользит раздвоенный язык.
Ей кажется уже, что бегает она в лесной чаще, прутья ее хлещут, а она кличет на помощь… За ней, перескакивая с ветки на ветку, гонятся обезьяны со смехом, а другие звери воют…
Этот смех и гадливый вой становятся Гале невыносимы, она отмахивается и кричит, теряя самообладание:
— Что вам от меня нужно?
— А вот что! Скажите, в каких вы отношениях были с Василевским, именуемым в просторечии Васюком?
Галя смутилась; кровь бросилась ей в лицо, дыханье сперлось в груди; она отшатнулась за сосну и замолчала.
— Ну-с, так в каких, сударыня, состоите отношениях?
— Он был моим мужем… — с воплем негодования хочет вырваться от него Галя, но напрасно.
— Венчались вкруг ракитового куста или в овраге в темную ночь?
— Не издевайтесь! Я не позволю! — крикнула возмущенная Галя, но тут поднялся такой гвалт и лай, что она почти потеряла сознание. В хаосе ощущений, в какой-то бессильной борьбе она сознавала лишь смутно, что все ее тело содрогается от мучительных жал скорпионов, голова трещит от ударов, нервы рвутся от пытки.
— Оставьте меня! Пощадите! Я ничего худого не сделала, я никому не думала делать зла! — молит она напрасно, ломая слабые руки. — Мама! Где ты? Заступись за свою бесталанную дочь!!
Но вот клубы черного смрадного дыма врываются и покрывают все непроницаемым мраком… Галя мечется, силится уйти, убежать, но со всех сторон сдвигаются железные стены и заграждают ей выход; она бьется о них до крови, но в мертвой тишине сдвигаются стены все больше и больше. Галя уже не может двигаться, ей тесно, ее давит со всех сторон холодное железо… Грудь стиснута, мозг застывает… дыхания нет… смерть… смерть!
Рванулась Галя с последним напряжением отчаяния, и на минуту озарило ее сознание, но эта минута была таким ужасом, который испытывает человек только раз в жизни. С страшными, мучительными натугами силится Галя вдохнуть воздух, но неподвижна ее грудь, как гробовая доска, и последним содроганием трепещет в ней жизнь.
Наконец прорвался из сдавленного горла раздирающий душу крик: "Воздуху!" — и разбудил даже Гриця; тот схватился и большими глазами, стал смотреть на бедную тетю, а она конвульсивно металась и рвала на груди рубаху, подкатывая глаза и обливаясь кровавой пеной… Гриць зарыдал и, перепуганный насмерть, бросился на улицу бежать в церковь.