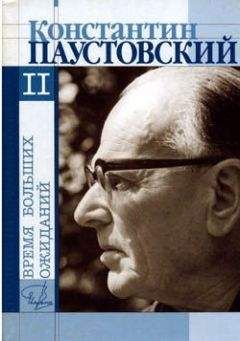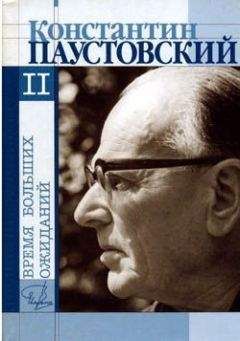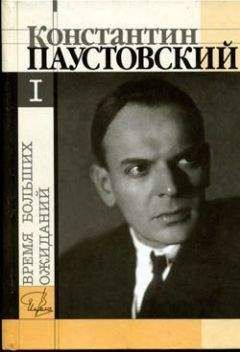Сташевский лежит, закрыв глаза, потом спрашивает:
– Ты давно видел Хатидже?
– Вчера.
Он снова замолкает. После болезни он может часами слушать шум дождя, мяуканье сирен, гудки паровозов, смотреть за окно, где не спеша проползает туман или страшно высоко стоит облако, залитое теплым светом.
– Хорошо! – говорит он и вздыхает. – Боже мой, как хорошо!
Иногда он просит:
– Максимов, расскажи, что на улице.
Я рассказываю обо всем, что вижу за окнами, но пестрые мысли скачут в моей голове, и люди преображаются в персонажей из сказок. Коробки с сапожной мазью у чистильщиков становятся исполинскими и яркими. Мальчишки-папиросники воскрешают перебранки на улицах греческих городков, а при взгляде на сизых торговок зеленью я вспоминаю рассказы Мопассана.
Сташевский засыпает, и я ухожу. Я спускаюсь по портовым спускам, где на стенах зеленеет сырость. Ребристые цинковые склады становятся теплыми от солнца. Тонкий лед примерзает к бортам пароходов, и матросы курят на палубе и насвистывают песни.
Я жду – может быть, встречу Хатидже. Робость сковывает мою волю, я жду случайной встречи. Несколько дней я ее не видел. Несколько дней на душе саднит, как тонкая трещина, боль о том, что вот уходит время, просторные дни сменяются, как перевернутые страницы, и я не вижу Хатидже.
Я прохожу по переулкам около ее дома. Лед хрустит под ногами. Мороз крупной солью лежит в пустых водоемах. На подмерзшей земле я ищу узкие следы ее ног. Она видела эти зеленые ставни, черные деревья, ограды холодных садов. Я тихо касаюсь рукой их шершавых камней.
Проходят девушки, но нет ни одной, равной ей.
Скептики! В те дни я много думал о любви. Млеют городские барышни. Петушатся мужчины. Лунные ночи делают свое дело, и жирный свадебный обед освещает любовь. Жених моет потные ноги, невеста пудрит подмышки. Похоть, похожая на обжорство, на храп и на привычку по утрам очищать желудок, вступает в свои права. Розовый лимонад мутнеет. В нем плавают мухи, и первый ребенок – последыш случайной любви – пускает в этот лимонад свои вязкие слюни.
В одно обыденное утро жена замечает желтые подтяжки мужа, куриную синеву его ног, дурной запах изо рта, смешанный с запахом одеколона, а муж видит нездоровые и мятые груди жены, космы волос, слышит ее плачущий голос. Начинается надоедливый до зевоты конец.
Тогда тяжесть жизни, лишенной иллюзии, вызывает в самом потайном уголке души первую человеческую боль о том, чего не было, но что должно было быть.
Эта мысль приходит всегда, когда уже поздно и возможности к иному захлопнуты.
Еще гимназистом я ездил с отцом в Карачай, и мы подымались на склоны Эльбруса. Над альпийскими пастбищами разгоралось утро. Была роса, резкая прозрачность, я вспомнил тогда одиночество Пушкина в этих местах:
Мне грустно и легко: печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою…
С ледниковых полой тянуло льдом и слабым запахом фиалок. Дали были открыты на сотни верст. Долины лежали внизу, как позеленевшие бронзовые чаши, налитые синей водой. В великой горной тишине стояло жаркое и близкое солнце.
Теперь второй раз я испытал это чувство – будто ветер выдул из меня старую душу, и вместо нее – горное солнце и воздух ледниковых полей.
Ветер приносит слабый запах фиалок, как в то далекое утро.
Любовь – как горные перевалы: видно на сотни верст. Не каждому дано дойти и погрузить свои руки в холодные и чистые ручьи Эльбруса.
Я не могу передать боль и радость этой любви, когда ждешь неизбежных потрясений, когда утро гремит сотнями корабельных гудков и исполинское солнце пролетает над зимними днями. Я опускаю глаза, чтобы встречные женщины не подумали, что я люблю их всех.
Любовь созрела и цветет, и зеленые морские дни – как дни из сказок.
Я боюсь возвращаться в гостиницу, – Сташевский посмотрит и обо всем догадается. Я не уеду отсюда. Я буду голодать с Гарибальди, проводить ночи в ночлежке и слоняться по улицам, под этим небом дни и ночи. Я смотрю на прохожих глазами, темными от сдержанного восторга. Что со мной, я сам не могу понять, но мне почему-то страшно.
Вот как случилось это маленькое событие.
Гарибальди пришел взволнованный и принес цветы – белые астры и левкои и записку на мое имя. Запахом осени наполнилась комната.
– Откуда это, Гарибальди? – спросил Сташевский.
Гарибальди таинственно рассказал, что он встретил на улице девушку, она спрашивала его о больном. Потом она вошла в магазин «Ницца», купила цветы и сказала, чтобы их поставили в теплую воду около постели больного.
– Хатидже, – сказал Сташевский. – Славная девушка. – И он прикоснулся к цветам.
Я взял маленькую записку.
«Почему вы не приходите, Максимов? Мне нужно спросить вас о многом. Ведь вы еще не скоро уедете?»
Гарибальди снова зашептал:
– Она спросила меня: «Когда можно прийти к вам?» Я сказал: «Синьорина может прийти вечером, я сыграю для нее на скрипке».
– Молодец, старик. Ну и что же?
– «Хорошо», – сказала она, попрощалась и протянула мне свою руку.
И теперь рука у него еще пахнет, так пахнет…
Вечером в нашем номере стало даже уютно.
Гарибальди надел синие брюки Сташевского, почистил рыжие ботинки, поскреб свою табачную щетину и стал похож на старого прожженного боцмана с грязных итальянских буксиров.
Хатидже вошла в номер, тотчас смущенно засмеялась, вытащила из меховой муфты печенье, шоколад и неразрезанный томик стихов.
– Это книжка Блока, – сказала она Сташевскому. – Мне казалось, что вы должны его любить.
Я пошел за Гарибальди.
Когда я проходил мимо свинцового, мутного зеркала, я заметил, что тоже смеюсь, и подумал: «Ей было немного страшно идти сюда, но теперь все прошло».
Гарибальди долго настраивал скрипку, потом вздохнул и пошел со мной.
Когда мы вошли, я заметил, что Хатидже была еще больше взволнована. Голос ее стал низким, грудным, Гарибальди бережно взял ее руку, поцеловал, опустил, как драгоценность, и засмеялся, сморщив свое старое доброе лицо.
Потом он играл старинные галантные мелодии, которые напевала Венеция времен Карло Гольдони и Гоцци. Хатидже была поражена.
– Ведь он – талантливый музыкант, – сказала оиа Сташевскому. – Чем он живет?
– Играет по дворам, на свадьбах, в портовых тавернах для иностранных матросов.
Вошел Семен Иванович с бутылкой коньяка, и Гарибальди встретил его бравурным маршем.
Не было рюмок, и мы пили коньяк из чайных стаканов.
Сташевский предложил длинный тост за Блока. Это дало ему повод сделать несколько горьких упреков по нашему с Винклером адресу: «Шалопаи, влюбленные в слова мальчишки, из которых все равно ничего не выйдет. Умеют только издеваться над всем, в том числе и над старшим товарищем».
Заговорили о Париже. Хатидже почему-то вспомнила парижскую осень, когда над мансардами тихо шумят дожди, город отражается в мокром, черном, как сажа, асфальте и по вечерам надо зажигать камин.
– В эти вечера охватывала такая тоска по России! Я боялась, что никогда не вернусь.
Она замолчала, опустила глаза и медленно стала перебирать мои пальцы.
– А теперь, Максимов, спой наш гимн, – попросил Сташевский.
Гарибальди глухо взял отрывистую мелодию:
Нам жизнь от таверны до моря,
От моря до новых портов.
Мы любим бессонные зори,
Мы любим разгул кабаков
И топим налипшее горе
У залитых водкой столов.
– Что это? – прошептала Хатндже, но струны снова отрывисто захохотали:
Эй, бубны, эй, чертовы скрипки!
Держитесь, чтоб в трюм не упасть!
Так волны по осени зыбки,
Ладони изрезала снасть.
Ловите любовь и улыбки,
Приливам и бурям смеясь!
И снова быстрая, ускользающая мелодия взмыла и стихла.
– Что это? – спросила Хатидже и наклонилась ко мне.
– Это наш гимн, – ответил Сташевский, – гимн пяти.
– Как пяти? Четырех.
Гимн пяти. Он принял Хатидже в нашу бродячую банду. Хатидже поняла, покраснела и взглянула на меня умоляющими глазами.
– Сташевский устал, – сказала она и поднялась. – Мы много шумели.
Я пошел проводить Хатидже. В порту били склянки – была полночь. Изредка ветер трепал гроздья звезд.
Мы долго шли молча. Большая Медведица косо висела над степью. На каменных плитах тротуаров стояли лужи дождевой воды. На рынке под белыми низкими сводами горели фонари.
– Максимов, – вдруг громко сказала Хатидже и взяла меня за руку.
– Что, Хатидже?
Ее рука заметно дрожала.
– Ничего. Это так… Это сейчас пройдет.
Остро сверкали огни на мостовой, звезды падали брызгами в ледяные лужи, пахло зимними свежими садами. Я взял ее руку, снял перчатку и долго грел пальцы своим дыханием.
– Максимов, знаете, что спросил меня Сташевский?
– Что, Хатидже?