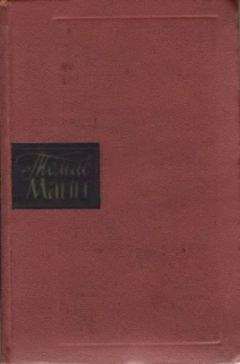— Бедная моя мамочка! Как ты страдаешь, как мучаешься! Мне больно за тебя. Но нет, мне кажется, нет! Правда, я мало знаю его образ жизни и не испытываю потребности вникать в него, но я не думаю. Во всяком случае, мне не приходилось слышать о подобных отношениях между ним и госпожой Фингстен или госпожой Лютценкирхен.
— Надеюсь, моя добрая девочка, ты говоришь это не в утешение мне, не с тем, чтобы приложить бальзам к моим ранам, не из сожаления. Жалость, — хотя, быть может, я и ищу ее у тебя, — здесь неуместна… В стыде и в муках — мое счастье. Я горда ущербной весной своей души, и если тебе показалось, что я молю о жалости, то это не так.
— Нет, мама, мне не кажется, что ты молишь о жалости. Но в подобных случаях гордость и счастье тесно сплетаются со страданием. Они нерасторжимы. И если даже ты не ищешь жалости и сострадания, — все равно ты вызываешь их у тех, кто тебя любит, кто хочет, чтобы ты сама себя пожалела и освободилась от этого наваждения… Прости меня за резкость, но я не забочусь о словах, я забочусь о тебе, родная, и не только после твоего признания, за которое я тебе так благодарна, не только с сегодняшнего дня. Ты с большим самообладанием скрывала свою тайну, но что она — столь необычная и странная — существует и уже несколько месяцев терзает тебя, это не осталось незамеченным для тех, кто тебя любит, кто в полной растерянности наблюдал за тобой…
— Кого ты подразумеваешь, говоря о тех, кто меня любит?
— Я говорю о себе. За последнее время ты очень переменилась, мама! То есть не переменилась — это не то слово, — ведь ты осталась все той же, и, говоря «переменилась», я имею в виду не твой внешний облик, его омоложение, но и это не то слово: ты, разумеется, не могла на самом деле так уж помолодеть. Но по временам, минутами, моему взору чудилось некое фантасмагорическое видение, словно в твоем милом, почтенном образе внезапно вырисовались черты той мамы, которую я знала, когда была подростком, — нет, больше того — подчас мне казалось, что я вижу тебя такой, какой никогда не видела. Так, вероятно, ты должна была выглядеть, когда была молодой девушкой. И этот обман зрения, если это обман зрения, — но нет, это не обман! — казалось, должен был меня только радовать, веселить мое сердце, ведь правда? Но мне не было весело, напротив, — мне тяжело становилось на сердце. И именно в те мгновения, когда ты молодела на моих глазах, мне было особенно жаль тебя! Потому что одновременно с этим я видела, что ты страдаешь, видела, что фантасмагория, о которой я упомянула, не просто связана с твоим страданием, а является его выражением, зримым выражением того, что ты называешь своей ущербной весной. Милая мама, откуда у тебя такие слова? Они несвойственны тебе. Ты — скромная, душевная женщина, заслуживающая всяческого восхищения. Твои глаза ясно и зорко смотрят на природу, на жизнь, но не в книги. Ты никогда много не читала, и прежде ты не пользовалась такими словами, выдуманными поэтами, такими горькими, больными словами, и когда теперь ты их все же произносишь, это доказывает…
— Что доказывает, Анна? Если поэты пользуются такими словами, то не потому ли, что они им полезны? Они отражают их переживания, их чувства. То же самое происходит и со мной, хотя, по-твоему, мне это и не к лицу. Но это неверно. Слова приходят к тому, кому они нужны, они просятся наружу, их не страшишься. Но я могу объяснить твой обман чувств и зрения, всю эту фантасмагорию, как ты сказала. Это воздействие его юности, стремление моей души уподобиться ей, чтобы не испытывать только стыд и унижение.
Анна плакала. Они обнялись. Их слезы смешались.
— И эти слова, родная моя, — с усилием проговорила хромая девушка, — тоже сродни тем чужим словам, к которым ты стала прибегать. В твоих устах они звучат как разрушение. Твоя злополучная одержимость разрушает тебя, я вижу это, и я это слышу, когда ты со мной говоришь. Мы обе должны покончить с этим любой ценой, положить конец твоей пагубной страсти, спасти тебя от самой себя. С глаз долой — из сердца вон, дорогая мамочка! Есть только один исход, спасительный исход: молодой человек не должен больше бывать у нас, мы должны отказать ему от дома. Но этого мало. Ты видишь его и вне дома, в обществе. Ладно, значит, мы обяжем его покинуть город. Я берусь за это. Я поговорю с ним по-дружески, поставлю ему на вид, что он попусту растрачивает себя здесь, что давным-давно пора расстаться с Дюссельдорфом, что не может же он весь свой век околачиваться в этом городе. Я скажу ему, что Дюссельдорф — еще не вся Германия, что при его любознательности ему следует отправиться дальше, в Мюнхен, в Гамбург, в Берлин, что и эти города существуют на свете, что их тоже надо изучить, что следует быть более подвижным, жить то здесь, то там, прежде чем вернуться на родину и занять там подобающее положение, вместо того чтобы разыгрывать из себя в Европе учителя-инвалида. Я повлияю на него. А коли он не согласится, не пожелает порвать с Дюссельдорфом, где он успел наладить деловые связи, что ж, мама, тогда уедем мы. Мы сдадим наш дом и переселимся в Кельн, или во Франкфурт, или в какое-нибудь красивое местечко под Таунусом, и ты оставишь здесь то, что тебя разрушает и мучает, забудешь обо всем с помощью никогданевидения. Стоит только не видеться, и все пройдет. Так не бывает, чтобы нельзя было забыть. Можешь называть это забвение позором, но, верь мне, забывается все! И тогда там, в Таунусе, ты снова будешь наслаждаться своей милой природой, снова станешь нашей любимой старой мамой. Проникновенная, но бесполезная настойчивость.
— Стой, Анна, остановись! Хватит, я не могу больше слушать! Ты плачешь вместе со мной, твое участие полно любви, но все, что ты наговорила, все твои предложения — невозможны и для меня ужасны. Прогнать его или уехать нам? Вот куда привела твоя опека! Ты говоришь о милой природе, но плюешь ей в лицо своими бессмысленными требованиями, ты хочешь, чтобы и я плюнула ей в лицо, задушила ущербную свою весну, которой она так чудесно и щедро меня облагодетельствовала. Каким грехом и предательством это было бы по отношению ко всеблагой природе! Какой неблагодарностью и неверием в ее всемогущество, каким отрицанием ее милосердия! Ты забыла о Саре и о том, как она провинилась перед богом. Она подслушивала у двери и, смеясь, себе говорила: «Я стара, прилично ли мне предаваться наслаждениям? Да и супруг мой стар». Но господа оскорбило ее неверие. «Почто смеется дщерь моя Сара?» — сказал он. Я-то думаю, что она смеялась не столько над своим преклонным возрастом, сколько над тем, как стар и обременен годами ее супруг и господин Авраам. Ему было девяносто девять лет. Какую женщину не рассмешила бы мысль о любовных утехах с девяностодевятилетним старцем? Пусть даже в жизни мужчины пора любви не столь резко ограничена, как в жизни женщины. Но мой господин молод! Он — сама молодость, воплощение молодости, и насколько же легче и заманчивее для меня мысль… Ах, верная моя Анна! Я полна вожделения, кровь моя кипит постыдным, жгучим и горьким желанием, и я не откажусь от него, не отрекусь, не удеру в Таунус, а если ты уговоришь уехать Кена, то возненавижу тебя до конца своих дней.
В великом смущении слушала Анна эту безудержно-хмельную речь.
— Милая мама, — сказала она угасшим голосом, — ты очень возбуждена. Сейчас ты больше всего нуждаешься в покое и сне. Выпей двадцать пять капель валерьянки на воде, даже тридцать. Это безобидное средство иногда очень помогает, и, заверяю тебя, я не предприму ничего, что было бы несогласно с твоими желаниями. Верь мне, твое спокойствие мне дороже всего! Если же я пренебрежительно говорила о Кене, которого буду уважать как объект твоего благоволения, хотя мне следовало бы ненавидеть его как причину твоих страданий, — то пойми, я и это делала только в надежде образумить тебя. Я бесконечно тебе благодарна за оказанное доверие и надеюсь, твердо надеюсь, что, объяснившись со мной, ты облегчила сердце. Может быть, это объяснение — начало твоего выздоровления, — прости, я хотела сказать успокоения, — и твое милое, веселое, дорогое нам сердце вновь станет прежним. Оно любит, страдая; но не думаешь ли ты, что со временем оно научится любить благоразумно и не страдая. Любовь, знаешь ли (все это Анна говорила, заботливо провожая мать в ее спальню, с тем чтобы собственноручно накапать ей в стакан валерьяновых капель), — любовь — какой только она не бывает, как многообразно то, что прячется под ее именем, и вместе с тем — она всегда одна и та же. Любовь матери к сыну, — знаю, ты не очень привязана к Эдуарду, — но и эта любовь бывает задушевной и пылкой, она едва уловимо, но непреложно, отличается от любви к ребенку своего пола, ни на мгновение не преступая границы дозволенного — границы материнской любви. Если учесть, что Кен действительно мог быть твоим сыном, может, ты попытаешься перевести нежность к нему в иное русло, придать ей оттенок материнства, себе на благо?