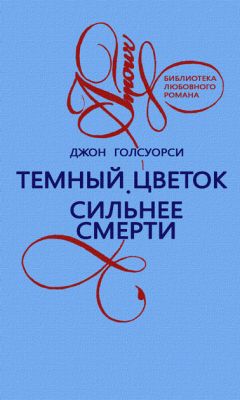X
В ту ночь Анна ни на минуту не забылась сном. Раскаяние ли не давало ей уснуть, или пьянила память? Если она и опасалась, что поцелуй ее был преступлением, то не против мужа или себя самой, а только против юноши — быть может, она убила в нем возвышенную мечту, разрушила священную иллюзию? Но не чувствовать себя лихорадочно счастливой она тоже не могла, и мысль о том, чтобы отступиться, даже не приходила ей в голову.
Так, значит, он готов хоть немножко любить ее! Совсем немножко в сравнении с ее любовью, но все-таки. Ничего иного не мог означать этот поворот головы с закрытыми глазами, словно он хотел зарыться лицом у нее на груди.
Стыдилась ли она своих уловок, к каким прибегала за последние дни? Улыбок, которыми дарила молодого скрипача, нарочно позднего возвращения в тот вечер, когда их ждали с вершины, цветка, который она ему подарила, — всей сознательной осады, которую она вела с того самого вечера, когда муж вошел к ней и разглядывал ее, думая, что она спит? Нет, не стыдилась! Если она и раскаивалась, то только в поцелуе. Об этом страшно было думать, ибо здесь была смерть, полная гибель ее материнского чувства к этому мальчику; а в нем — пробуждение, но чего? Если она для него была загадкой, то чем только не был для нее он, с его пылкостью и мечтательностью, с его юной добротой и невинностью! Что, если поцелуй убил в нем веру, стер утреннюю росу, свергнул звезду с неба? Простит ли она себе это? Как ей снести вину, если из-за нее он сделается таким же, как и сотни других мальчиков, как тот молодой скрипач, — просто циничным юнцом, для которого женщины — это, как они выражаются, «законная добыча»? Но полно, сможет ли она сделать его таким, получится ли из него такой? Нет, конечно же, нет; иначе она бы не полюбила его с первого раза, когда только увидела и назвала его ангелом.
Она не знала, что он сделал, куда ушел после того поцелуя, или преступления, если он был преступлением. Быть может, бродил всю ночь, а может, сразу же поднялся к себе. Почему она остановилась на этом, оставила его там на скамейке, бежала от его объятий? Она сама едва ли знала, почему. Не из стыда, не из страха — из благоговения, может быть, но перед чем? Перед любовью — перед мечтой, тайной, перед всем тем, что делает любовь прекрасной; перед юностью и поэзией юности; перед самой этой темной, тихой ночью и перед запахом цветка — темного цветка страсти, которым она завоевала его и который теперь взяла у него незаметно назад, всю ночь держала у губ, а утром, завядший, спрятала у себя на груди. Она так долго жила без любви, так долго ждала этой минуты — не удивительно, что теперь она сама не отдавала себе отчета, почему поступает так, а не иначе.
А как она встретится с ним сегодня, как посмотрит в его глаза? Изменялись ли они? Исчез ли этот прямой взгляд, который она так любила? Решать все достанется ей, от нее зависит, что будет дальше. И она твердила себе: «Нет, я не побоюсь. Дело сделано. И я возьму то, что дарит мне судьба!» О муже она даже и не вспомнила.
Но при первом же взгляде на юношу она поняла, что какое-то неблагоприятное внешнее событие вмешалось в дело после ее поцелуя. Он, правда, сразу же подошел к ней, но не сказал ни слова, а стоял, весь дрожа, и протянул ей телеграмму, в которой было написано:
«Приезжай немедленно. Свадьба на днях. Ждем тебя послезавтра.
Сесили».
Эти слова, лицо юноши — все затуманилось, расплылось у нее перед глазами. Потом, сделав над собой усилие, она спокойно произнесла:
— Разумеется, вы должны ехать. Не можете же вы не присутствовать на свадьбе вашей единственной сестры.
Он поглядел на нее безропотно; она не могла вынести этого взгляда — так мало знающего, так много просящего. Она сказала:
— Пустяки, каких-нибудь несколько дней. А потом вы вернетесь или мы к вам приедем.
Его лицо сразу же посветлело.
— Вы, правда, приедете к нам скоро, сразу же, если они вас пригласят? Тогда мне не страшно, тогда я… я… У него перехватило дыхание, и он замолчал.
Она опять сказала:
— Пригласите нас. Мы приедем.
Он схватил ее руку, сжал, сдавил между своими, потом отпустил, нежно погладил и сказал:
— Я сделал вам больно. Простите.
Она засмеялась, чтобы не заплакать.
Он должен был отправиться сейчас же, чтобы не опоздать на поезд и вовремя добраться до дома. Она пошла с ним и помогла ему упаковать чемоданы. Сердце ее точно свинцом налилось, но, не в силах переносить безропотно несчастного выражения его лица, она жизнерадостно болтала о том, что скоро и они вернутся, расспрашивала его про дом, про то, как к ним доехать, говорила об Оксфорде, о следующем семестре. Когда вещи были уложены, она обняла его и на мгновение притянула к себе. Потом она ушла. С порога, оглянувшись, она видела, что он стоит, застыв в том же положении, как она его оставила. Щеки ее были влажны, она вытерла их, спускаясь по лестнице. И только когда почувствовала себя вне опасности, вышла на террасу. Там сидел ее муж. Она спросила:
— Ты не сходишь со мной в город? Мне нужно купить кое-что.
Он поднял брови, туманно улыбнулся и последовал за ней. Они не спеша спустились по склону и пошли по длинной улице городка. Всю дорогу она что-то говорила, а сама все думала: «Его экипаж проедет мимо, его экипаж проедет мимо!»
Их обогнало уже несколько карет. Вот наконец и он. Он сидел, сосредоточенно глядя перед собою; их он не видел. Она услышала, как муж сказал:
— Вот так так! Куда это направляется наш юный друг Леннан, с видом львенка, попавшего в беду, да еще со всем багажом?
Она ответила, стараясь говорить как можно равнодушнее:
— Что-нибудь, наверно, случилось. А может быть, он просто спешит на свадьбу сестры.
Она чувствовала, что муж смотрит на нее, и подумала: интересно, какой у меня сейчас вид? Минуту спустя у самого ее уха раздалось знакомое: «Madre!» — их нагнала компания «надутых англичан».
Эти двадцать миль на лошадях были, наверно, самой тяжелой частью пути. Всегда особенно трудно страдать, если сидишь, не шевелясь.
Минувшей ночью, когда Анна ушла, он долго бродил в темноте, сам не зная где. Потом взошла луна, и он увидел, что сидит у стены сарая на задворках какой-то мызы, где все было мир и сон; а под луной далеко внизу белел в долине городок — крыши и шпили, и мерцал кое-где в окнах слабый, призрачный огонек.
Во фраке, с взлохмаченной темной непокрытой головой, — вот поразились бы обитатели мызы, увидь они его, сидящего на осыпанной сеном поленнице под стрехой их сарая и глядящего перед собою таким задумчиво-восторженным взглядом! Но там жили люди, которым сон дорог.
И вот теперь у него все отнято, все перенесено куда-то в неимоверно отдаленное будущее. Удастся ли уговорить опекуна, чтобы он и в самом деле пригласил их к ним в Хейл? Да и приедут ли они? Его профессору наверняка не захочется забираться в такую глушь — далеко от книг, от всего! Вспомнив о профессоре, он нахмурился, но только от опасения, что тот не захочет приехать; ведь если они не приедут, как он вытерпит еще целых два месяца до начала семестра? Об этом он и думал по дороге, а лошади трусили рысцой, увозя его все дальше и дальше от нее.
В поезде было уже лучше; развлекала вся эта разноплеменная публика, вызывали интерес новые лица, новые места; а потом к нему, измученному, обессилевшему, пришел сон — целая ночь сна, проведенная в углу купе. Назавтра опять новые виды в окне, новые лица в вагоне и на платформах; и настроение у него стало медленно изменяться — от тоски и смятения к восхитительной надежде, к вере в обетованную радость. Потом наконец Кале и ночное путешествие на маленьком мокром пароходике сквозь летний шторм, сквозь летящие в лицо клочья пены, среди белых валов, беснующихся на черном лоне вод под дикие завывания ветра. Дальше — Лондон; утренняя поездка по городу, еще спящему в августовской дымке; английский завтрак — овсяная каша, отбивные котлеты, джем. И вот наконец он в поезде, едет домой. Тут, по крайней мере, можно написать ей письмо. И, вырвав листок из своего альбома для набросков, он начал так:
«Пишу Вам в поезде, поэтому простите, каракули…»
Как продолжать, он не знал, ибо ему хотелось писать о таком, что просто немыслимо было выразить на бумаге, — о своих чувствах, которые невозможно передать словами; и потом в письме к ней не должно быть ничего такого, что нельзя было бы прочесть другим. Так о чем же оставалось писать?
«Я так долго ехал, расставшись с Тиролем» (он не отважился поставить: «расставшись с Вами»), «мне казалось, это путешествие никогда не кончится. Но все-таки теперь оно позади — почти. Я всю дорогу думал о Тироле. Для меня это было счастливое время, счастливейшее в моей жизни. И теперь, когда оно прошло, я стараюсь утешить себя, думая о будущем, но ближайшее будущее для меня не слишком радостно. Каковы-то сегодня наши горы? Передайте им от меня привет, особенно тем, которые похожи на львов, что приходят понежиться в лунном свете, — боюсь, Вы не узнаете их по этому рисунку» (тут следовал набросок). «А это церковь, где мы были, а в ней некто стоит на коленях. А вот это долженствует изображать „надутых англичан“, которые глядят, как некто очень поздно возвращается в гостиницу с альпенштоком в руке, — только мне лучше удались „надутые англичане“, чем некто с альпенштоком. Как жаль, что я не принадлежу к их компании и не нахожусь сейчас в Тироле. Я надеюсь получить от Вас вскоре письмо и надеюсь, там будет написано, что Вы уже собираетесь обратно. Мой опекун будет ужасно рад, если Вы приедете и погостите у нас. Он вполне сносный старик, если познакомиться с ним поближе, и еще после свадьбы у нас будет гостить его сестра миссис Дун с дочкой. Если Вы с мистером Стормером не приедете, это будет просто убийственно. Я хотел бы написать о том, как хорошо мне было в Тироле, выразить все, что я чувствую, но это мне не под силу, так что, пожалуйста, вообразите это себе сами».