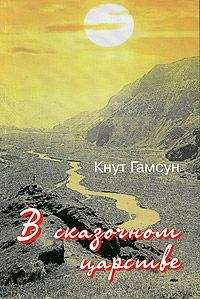В одной маленькой станице, где мы останавливаемся, молотят зерно на утрамбованной, покрытой глиной земле. Множество пшеничных снопов раскладывают по земле, потом по ним гоняют и лошадей и волов, пока из колосьев не выпадет всё зерно. Это — молотьба. Теперь меня больше не удивляет, что в русском зерне попадаются песок и мелкие камешки. Помню, что когда я был ребёнком и жил в Нурланне19, то приехали к нам как-то рыбаки из Финмарка20, у которых было с собою архангельское зерно, и маленькой мельнице моего отца приходилось очень плохо от русского зерна. Случалось даже, что я видел искры, которые сыпались из-под жерновов, когда между ними перемалывалось архангельское зерно. Это меня тогда очень удивляло. В то время я ещё не имел понятия о различных способах молотьбы. Но теперь я познакомился со всевозможными методами. В Америке мы молотили в пшеничных прериях при помощи огромной паровой молотилки, причём мякина, земля и солома целой тучей поднимались над прерией. Но самый интересный способ молотьбы я увидал здесь, где молодые казачки молотили при помощи волов. Они держали обеими руками длинный бич и громкими криками подгоняли животных. А когда они взмахивали бичом, то он описывал в воздухе красивую изогнутую линию. К тому же и сами казачки не отличались ни неповоротливостью, ни излишней полнотой, да и одежда на них была довольно лёгкая.
Равнина уже не такая плоская. Далеко-далеко налево мы замечаем даже на фоне голубого неба целую цепь гор, — это начало Кавказских гор. Здесь местность очень плодородная и равнина более густо населена, а на вершинах гор видны посёлки. Повсюду большие виноградники и плодовые сады, но лесов нет; только вокруг посёлков разведены рощицы акаций. Жара увеличивается. Мы попеременно уходим в купе и переодеваемся в самое лёгкое платье, какое только у нас есть с собою.
На телеграфных столбах, которые всё время сопровождают нас, то больше, то меньше проволок; здесь их девять.
Жара становится всё более и более невыносимой, и это меня несколько удивляет, так как мне приходилось раньше бывать в местностях, лежащих гораздо южнее. Правда, мы далеко на востоке, но мы находимся на широте Сербии, Северной Италии и Южной Франции. К тому же и не на столько тихо, чтобы только вследствие этого могло быть душно; в нашем вагоне раскрыты все окна и все двери, и ветер такой сильный, что мы должны держаться за шляпы. Лица у нас всех, словно тёмно-красный пион, а у дам лица даже как-то распухли, носы стали большие и смешные всем на потеху. Дамы, конечно, вымылись утром. А за такую неосторожность и стремление к кокетству во время долгого путешествия по железной дороге всегда приходится дорого расплачиваться.
Мы встречаем поезд с керосином и нефтью из Баку, и запах от этих вагонов, наполненных пахучим маслом, отравляет раскалённый воздух, которым и без того тяжело дышать.
Пятигорск находится дальше, налево; мы останавливаемся на маленькой станции и высаживаем едущих туда на воды пассажиров. Слава Богу, здесь офицер-еврей покидает поезд; он окончательно перестал узнавать меня. Надо принять все меры для того, чтобы уехать из Владикавказа раньше, чем он появится там.
В Пятигорске есть санатории и купания. Горы стоят порознь, выделяясь своими вершинами. Там есть горячие источники, до сорока градусов тепла, есть также источники с таким большим содержанием серы, что если положить в эту воду гроздь винограда, то, в течение нескольких часов виноград покрывается кристалликами серы, и ветки и ягоды принимают такой вид, словно они целиком сделаны из серы. Эти диковинки продают на станциях.
Вдали мы видим снеговые горы, которые почти сливаются с белыми облаками на небе. Эти огромные горные массы, которые поднимаются из степи и стоят, сверкая на солнце, представляют собою волшебное зрелище.
В семь часов вечера жара начинает спадать, слева от нас всё время высятся Кавказские горы, мы приближаемся к ним, и мало-помалу становится всё холоднее и холоднее. Мы затворяем двери в вагоне. Часа через два становится ещё прохладнее, и мы поднимаем даже окна. Тут я замечаю, что стеариновые пятна на моей куртке снова выступили, — это от холода. Итак, мой специалист оказался просто шарлатаном, он хотел только пустить пыль в глаза.
Солнце уже давно скрылось за горизонтом, горы стали бледно-зелёными. Когда смотришь издалека на эту мощную массу, то она представляется каким-то далёким самостоятельным миром. Там выступают шпицы, купола, башни и минареты — и всё это из снега. И мы, иностранцы, начинаем понимать то, что написали Пушкин, Лермонтов и Толстой о первом впечатлении, которое производит зрелище этой мистической красоты.
Начинает быстро темнеть. Мы подъезжаем к станции Беслан, где инженер должен пересесть на другой поезд и ехать прямо в Баку. После этого мы должны продолжать путь одни. Взошёл месяц, собственно полумесяц, а кроме того на небе зажглось также множество звёзд. Громады гор всё время теснятся рядом с нами. Часа через два небо заволакивает тучами, месяц и звёзды исчезают, и наступает непроглядная тьма. В этой тьме мы видим в степи два огромных костра, это обжигают известь под открытым небом. Искры целыми снопами высоко взлетают в воздухе, на фоне огня движутся тёмные фигуры, раздаётся лай собак.
На станции довольно темно, несколько фонарей, расставленных там и сям, дают скудный свет, и мы едва различаем наших спутников, с которыми прощаемся. Ещё долго спустя после того, как поезд, направляющийся на Петровск и Дербент, отошёл с семьёй инженера, мы ходим в темноте по станции. Зачем мы стоим здесь? Интересно было бы узнать это! Но у кого мы могли бы спросить? И кто мог бы нам ответить? Более двух часов мы бродим по станции и всё более и более привыкаем к темноте, и в конце концов мы начинаем видеть довольно хорошо. Пьяный крестьянин свалился и лежит у стены. Он или спит, или лишился сознания, но он не проявляет ни малейших признаков жизни. Какой-то господин в форме и с полоской на шапке приказывает убрать крестьянина, и два железнодорожных сторожа тащат его за руки вдоль платформы в какой-то сарай. Подтяжек у крестьянина нет, штаны и жилет отделились друг от друга у него на животе, и тогда мы видим, что на нём нет даже рубашки. И его поволокли, как животное, как труп. Если бы мы даже и могли ему помочь чем-нибудь, то больше на это у нас не было времени. Мимо станции проносится поезд, и наша линия освобождается, раздаётся свисток, мы спешим в наше купе и снова несёмся вперёд во мраке ночи.
Через полтора часа мы во Владикавказе. Половина двенадцатого. Мы опоздали на три часа.
Владикавказ.
— Носильщик! — зовём мы несколько раз. Наконец слово, которое мы, по-видимому, произносим неправильно, понимают. И к нам подходит носильщик. Он несёт наши вещи и берёт для нас извозчика. Извозчик везёт нас в гостиницу.
Час ночи, но гостиница ещё освещена. Два швейцара с золотой полоской на шапке встречают нас у подъезда.
— Вы говорите по-французски?
— Нет.
— По-немецки?
— Нет.
— По-английски?
— Нет. Говорю по-русски, по-татарски, по-грузински, по-армянски и по-персидски.
— Только?
Тем не менее мы входим в гостиницу, предварительно расплатившись с возницей, и поднимаемся в номер третий вместе с нашим багажом. Оказывается, что в номере только одна кровать. При помощи мимики мы даём понять, что нам нужна ещё одна кровать, и нам в ответ кивают утвердительно. Уже поздно, и мы голодны, надо сейчас же потребовать чего-нибудь, пока повар ещё не улёгся спать. Но моя жена заговаривает о том, что надо бы сперва помыться как следует. Однако я хорошо знаю свои обязанности и настаиваю на том, что прежде всего надо подумать о пище, а потом уже о разных пустяках, о нарядах и кокетстве. И мне удаётся настоять на своём.
Внизу в столовой нам дают жареную баранину, пирожки и щи. Лакей говорит по-русски, он понимает также по-английски «пиво» и «мясо», но эти слова мы сами знаем по-русски, так что от этого нам не легче. В общем же всё проходит благополучно и даже забавно. За исключением, впрочем, того, что еда необыкновенно дорога.
После ужина мы выходим на улицу. Уже два часа, но по другую сторону улицы мы видим много табачных и фруктовых лавочек, в которых ещё торгуют. Мы идём туда и покупаем виноград.
Когда мы возвратились в гостиницу, то увидали, что в нашей комнате действительно стоит вторая кровать, но она была не постелена. Мы звоним. Появляется горничная. Она босая и вообще легко одета в виду жары. Мы даём ей понять, что теперь нужно предпринять что-нибудь со второй постелью, и она кивает и уходит. Она не произнесла ни слова, и мы не могли понять, на каком языке она говорит, но нам почему-то показалось по её виду, что она должна говорить по-татарски. Мы снова выходим на улицу и опять покупаем фрукты, два мешка, так что у нас их довольно много. Нам хорошо на воздухе, и мы бродим в темноте.