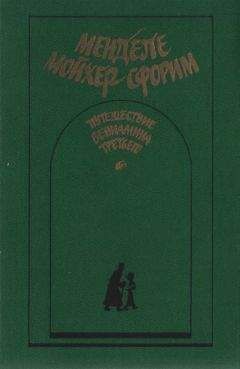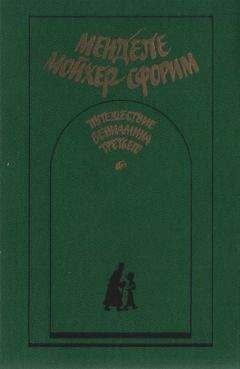И вдруг на меня надвинулась туча: в доме запахло паленым. Искали тут, искали там и нашли наконец, что это у меня, несчастного, тлеет та самая задняя часть платья, которую я обметывал! Когда я обрезал свечу, кусочек нагара упал на ткань! Поднялся вопль, крик, галдеж. Пощечины, зуботычины и удары посыпались на меня градом! Влетело мне как следует. Портной пытался превратить заднюю часть платья в переднюю, сделать из нее рукав, — ничего не выходило! Он уже, бедняга, вынул из сундука кусок материала, который выгадал при кройке, но — мучайся хоть целый год — ничего не получалось! Хоть разорвись! Хоть собою дыру залатай, толку нет! Задний крой должен остаться задним кроем, из свиного хвостика не сделаешь ермолки.
— Выслушай-ка меня, Ицик-Авремл! — сказал Лейзер. — Выслушай, негодяй, паршивец ты этакий, сгнить бы твоим костям! Бить тебя больше нет сил… Когда хозяйка вернется с базара, она тебя, вероятно, тоже обогреет, пересчитает все твои косточки. Она имеет точно такое же право, как и я, и она своего не упустит. Но все это ничто, все это дерьмо по сравнению с тем, что тебе достанется позднее, если мне не удастся моя уловка.
Портной Лейзер тут же задумался над пострадавшим платьем и заговорил сам с собой: «А почему бы таки не карман?.. Из дырки — да карман!.. Но вдруг, если… Э, ладно, что уж тут терять?..» Потом он уставился на меня и крикнул:
— Пошел вон, паршивец! Псам бы с тобою водиться!
Я выскользнул из-за стола, точно кошка, и с замиранием сердца стал дожидаться печального конца.
Эта грустная история произошла в среду под вечер. В пятницу, помню, как сегодня, хозяин велел мне нести за ним пострадавшее платье к жене арендатора. Арендаторша как глянула — светопреставление: на самом заду карман!
— Что это такое, милейший мой портной? — раскричалась она. — С какой стати — вот это? Что это? Я, убей меня бог, такое платье ни за что не приму!
— Э, — ответил мой Лейзер со сладеньким смешком и не дал ей дальше говорить, — не кричите, право же, Брайндл! Помоги мне бог так прекрасно жить, как я вам все прекрасно сделал! Я сшил вам платье по самой последней моде. Не спорьте, у всех барынь теперь разрезные карманы сзади. Только сумасшедшие делают теперь карманы спереди! Не избавиться мне, господи, от моего ремесла и остаться навеки портным (это была его обычная клятва, как и у всех евреев-ремесленников), если это платье не выглядит великолепно! Жаль, право, что вы собственными глазами не можете полюбоваться на всю его прелесть. Право же, перестаньте ощупывать, Брайндл, все хорошо! Пользуйтесь на здоровье, носите на здоровье и порвите поздорову! Только дайте что-нибудь моему ученику, он заслужил, право. Бедняжка немало натрудил свои глаза, пока управился с вашим карманом. А мне причитается рюмка, право!
Лейзер считался в Безлюдове одним из лучших портных, из тех, что шьют по журналам, а арендатор был одним из крупнейших богачей, и когда увидели его жену, арендаторшу, в платье с карманом сзади, все безлюдовские модницы стали носить платья с разрезными карманами сзади. Но хотя мой карман и вошел в моду, мне он удачи не принес. Лейзер боялся, как бы я опять не натворил каких-нибудь новых мод, от которых у него начались бы, не дай бог, колики. Из страха он не давал мне больше прикоснуться к работе и передал меня в полное владение своей жене, себе оставив только право влепить мне время от времени оплеуху. «На что мне сдался, — заявил он, — этот безнадежный сопляк, этот никчемный фокусник?» При этом он добавлял свое обычное изречение: «Ай-ли-лю-ли — аллилуйя, — „да восславит его войско его“, — псам бы с тобою водиться!..» Затем я причинил ущерб и Лейзерихе — нечаянно разбил горшок с яйцами и был вынужден в конце концов покинуть их.
Потом меня отдавали к разным ремесленникам, — что ни неделя — к другому. Но мне, злосчастному, нигде удачи не было. Каждый ремесленник на первых порах знакомил меня со своим хозяйством и сваливал на мои плечи все его тяготы. Был среди других моих хозяев один сапожник, неунывающий бедняк, он все посылал меня в грязные закоулки — дергать у свиней щетину из хребта. «Глупенький, — такова была его всегдашняя поговорка, — с поганой свиньи хоть щетину драть, драть со свиньи — сам бог велел». Когда я тащил ушат с помоями, этот веселый бедняк вставал и шутя провозглашал нараспев:
— Воздайте почести Ицику! Неси, неси, милый Иценю-Авременю, дай мне бог дожить и тащить на твою свадьбу вино в решете! Тащи, милый Иценю, тащи, в твои годы я достаточно помойных ушатов поперетаскал!..
Этого самого сапожника я в душе любил: он обходился со мной лучше всех других. У него я бы удержался и даже, быть может, чему-нибудь — научился, но он серьезно заболел, стал все сильнее кашлять, харкать кровью, — бедняга всю жизнь мучился, горе мыкал, работал через силу, чтобы прокормить жену и детей, а сам он бывал сыт одними страданиями. Кроме черствого сухого ломтя хлеба, он ничего в глаза не видал. Вкус мяса был им давно забыт, и при разговоре он иногда шутил: «Мясо — это не еврейская еда. Одному мне, сумасшедшему, — в субботу могли померещиться потроха в горшке!..» Беднягу на тележке отвезли в дом призрения, и там он вскоре умер.
7
И был день — в Безлюдов прибыл странствующий кантор[18] и в субботу пел с хором в нашей синагоге. Народ из всех молелен бежал его слушать. Самые набожные спозаранку управлялись с утренней молитвой, а потом шли слушать кантора. Теснота была страшная, яблоку упасть негде было, — толкались, напирали друг на друга. Втиснулся в синагогу и я, чтобы послушать кантора. Как и все евреи, я очень любил пение.
Был у кантора маленький певчий, моих лет, голосок что колокольчик. Когда он стоял у аналоя и, подперев рукой щечку, «тралялякал», я ему так завидовал, что готов был отдать с себя последнюю рубашку, только бы стать, как и он, певчим. Когда мы, мальчишки, вышли в сени на время чтения торы, я глядел на этого маленького хориста с великим благоговением. Я перед ним полностью пасовал. Мне казалось, что нет на свете профессии лучше певчего. Куда мне до него! Едва этот маленький певчий открывал уста, я неотрывно смотрел ему в рот и, если бы мог как есть вскочить туда, то сделал бы это с величайшей радостью и испытал бы невыразимое наслаждение.
Дома по возвращении из синагоги я все пытался подражать маленькому певчему. А после обеда разошелся вовсю и в полный голос распевал песни, чем доставил матери огромное удовольствие. Но теперь я, увлеченный песнопениями, уже не старался подражать маленькому певчему, мне вообще почему-то пелось, я ни на миг не мог умолкнуть. Уже давным-давно пообедали, а я все еще пел, выводил всевозможные канонические мелодии. Мое пение в конце концов перешло в озорство, я надрывно орал на разные неслыханно дикие голоса. Мама, увидев, что я никак не угомонюсь, не даю ей отдохнуть после обеда, хорошенько отшлепала меня и выгнала вон из дому. А куда бежать мальчику в субботу днем? Конечно, в синагогу. Ге-re! Там я застал всю шатию самых отъявленных сорванцов. Я-то думал, что был единственным подражателем маленькому певцу. Нет! Все остальные делали то же, что я. Каждый в отдельности был занят делом: один пищал, другой рычал, третий гудел басом, кто пел фальцетом, кто дико кривлялся, драл горло, ржал, заливался дребезжащим голосом, выводил рулады, как флейтист. Потом вся орава дружно принялась исполнять на хорах в женской молельне жалобные молитвы, подражая кантору.
Мы мяукали, пищали, свистели, галдели, кричали до тех пор, покуда служка не окатил нас водой и не выгнал с позором.
У меня, надо вам знать, и впрямь был красивый тонкий голосок, словно звоночек. Я иногда подпевал портному Лейзеру, когда тот исполнял провожание невесты или пел «Царь небесный». Лейзер при этом смотрел на меня с улыбкой и говорил тоном человека, испытывающего большое удовольствие: «Хорошо, паршивец ты этакий! Так, так, черт бы тебя побрал, шельмец!..» И мне пришло в голову попросить маму отдать меня в учение к кантору. Я впился в нее, как пиявка, не отставал до тех пор, пока не вынудил ее повести меня к нему. Да и она, бедная, измученная вдова, уже была рада избавиться от такого сокровища, как я. Когда кантор велел мне издать высокий, тонкий звук и затем сказал, что берет меня в певчие, мне на радостях показалось, что я завоевал весь мир. Невозможно описать, каково было у меня тогда на душе. По-видимому, очень рада была и мать, так рада, что большей радости и не бывает, — я сам слышал, как в разговоре со своей знакомой она сказала:
— Опять же, Эстер, да продлит господь бог ваши годы, как может человек устроить судьбу другого. Расшиби себе голову, разорвись, из кожи лезь вон, Эстер, ничего не сделаешь. Как говорится, Эстер, когда всевышний возвышает человека, никто не знает, откуда это на него свалилось. Говорю это… по поводу моего сироты говорю. Опять же, Эстер, люди советовали пристроить его к ремеслу; так и быть, ремесло так ремесло. Но что из него вышло бы? И вот всевышний являет свою милость и доказывает, что все не так, как люди говорят, нет! И вот, Эстер, бог присылает кантора!.. Благословен и славен, Эстер, господь бог, мой сирота уже пристроен, он уже человек, про всех моих близких будь сказано! Я у бога совсем не заслужила такого. Тут уж совершенно явственно воздается ему за заслуги предков.