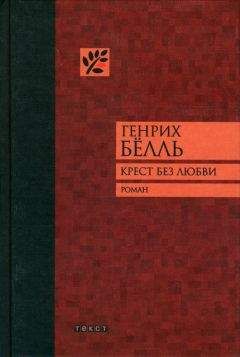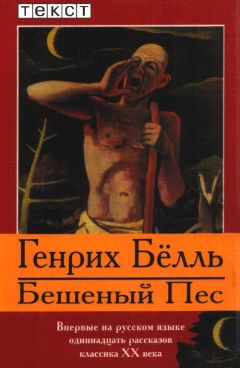— Да, у нас там много работы. Ты же знаешь, я ведь люблю работать.
Сестра налила ему чаю и поставила перед ним тарелку с ароматными поджаристыми оладьями; он бросил на нее короткий взгляд и поразился: она очень похорошела — карие глаза в сочетании с золотистыми волосами и маленький, свежий, яркий рот. Странно, он никогда не замечал, что его сестра такая хорошенькая, и голос у нее стал каким-то томным.
— Ах, — жалобно вздохнула она, — мы так давно не собирались все вместе. Даже не могу вспомнить, когда это было. Мне кажется, нам надо бы еще разок придумать небольшой праздник, в котором мы все примем участие. Как только Кристоф вернется, хорошо? — Она оглядела всех по очереди, но отец возился со своей записной книжкой, мать склонилась над сковородой… Жених с ее планом согласился.
— Фрау Бахем, — сказал он, повернувшись к матери, — надеюсь, это не прозвучит чересчур нескромно, если я попрошу вас принять и меня в круг участников, я ведь так мало знаком с вашими сыновьями… Кое-что я слышал о них у вас в доме, но их имена известны и за его стенами.
Фрау Бахем взглянула на него без улыбки, как бы безразлично; казалось, ее большие карие глаза потонули в глазах будущего зятя, похожих на чистые небольшие лужицы. Она машинально перевернула очередной оладушек и тихо произнесла:
— Да, вы правы, вам надо как-нибудь повидать нас всех вместе, это можно устроить, но иногда я боюсь, — и она налила на сковороду новую порцию теста, которая тут же с шипением расползлась, — иногда я боюсь, что нам не слишком долго осталось быть вместе.
Ее муж, покачав головой, захлопнул записную книжку, снял очки, медленно протер стекла носовым платком и посмотрел на жену:
— Боже мой, Ханна, тебя послушать, всегда кажется, будто весь мир вот-вот погибнет. Земля наша круглая, как шар, и вертится. Мне думается, что не следует искать в мире больше тайн, чем их есть на самом деле. Это ужасная мания — придавать событиям больше значения, нежели они заслуживают. И ты лишь напрасно ломаешь себе голову.
Фрау Бахем залилась краской. У отца была неприятная манера говорить о сугубо личных вещах в присутствии посторонних, он просто не замечал, что совершает неловкость. Ганс улыбнулся матери:
— Спрашивается, однако, сколько этих тайн существует и кому они известны. Я, во всяком случае, считаю, что стоит только начать об этом думать, как они, эти тайны, навалятся на тебя в таком количестве, что уже предпочтешь просто разрубить их, дабы не запутаться в них окончательно. И все же в мире есть силы и власти, мимо которых мы проходим, не замечая их, но наличие которых тем не менее не вызывает сомнений.
Отец семейства улыбнулся, покачав головой, и взглянул на будущего зятя, видимо, надеясь увидеть на его лице одобрение, но тот лишь внимательно смотрел на присутствующих, явно ничего не понимая и бормоча: «Интересно, интересно, весьма интересно».
Фрау Бахем покончила с оладьями, села за стол рядом с мужем, сложила ладони перед грудью и начала тихонько молиться. Жених бросил короткий вопросительный взгляд на невесту и последовал общему примеру. Фрау Бахем обратилась к нему:
— Простите, что я разрешила сыну начать есть раньше времени, но ему вечером обычно приходится опять уходить по делу… Или ты нынче остаешься с нами?
Ганс встретился с ее грустным взглядом, однако тут же опустил глаза, потому что был не в силах его вынести.
— Нет, мне надо идти, очень важное совещание…
Все молча ели; за ужином чувствовалось какое-то напряжение, Ганс сидел за столом, словно в клетке, и чувствовал, как крутятся его мысли, точно птицы в воздухе, терпеливо и долго высматривающие добычу, прежде чем упасть камнем вниз… Он все больше и больше испытывал неловкость из-за мыслей матери с ее вечной тревогой, из-за гордости ни во что не вникающего отца, любопытства сестры и ее жениха… Его чуть ли не в пот бросило от всего этого, и ему даже захотелось схватить и отодвинуть в сторону или даже перевернуть стол, чтобы только избавиться от этой ужасной неловкости. Гнетущее молчание нарушил отец, который внезапно спросил:
— Нельзя ли поинтересоваться, что это за совещание? Или это тоже тайна? — И громко рассмеялся.
— Я должен явиться к Гордиану.
Отец удивился, точно ребенок; он был так потрясен, что не заметил, как вздрогнула его жена. Жених присвистнул сквозь зубы и почтительно склонил голову; положив нож и вилку рядом с тарелкой, он сказал своим надтреснутым голосом:
— Тут уместнее, пожалуй, сказать, «мне разрешено» явиться к Гордиану, а не «я должен».
Ганс быстро подавил в себе обдавшую его жаром вспышку тщеславия. Только он один заметил, как мучительно сжалась мать, словно кто-то дотронулся до ее раны. Удержавшись от едкого ироничного ответа, он поднялся; у него вдруг стало так муторно на душе, что он не мог больше находиться в кухне. Мокрый от пота, он выдавил: «Извините меня, пожалуйста», на ходу пожал мягкую, влажную руку зятя и легким кивком попрощался с остальными.
Выйдя в прихожую, он секунду-другую приходил в себя. Однако на душе полегчало лишь ненадолго; его вновь охватило это отвратительное чувство, когда он казался чужим самому себе, игрушкой в руках неведомых сил, скрывавшихся под покровом непознаваемой тайны. Пошатываясь, он побрел в свою комнату, но, когда взял себя в руки и схватил папку, открылась дверь, на пороге появилась мать. И тут, при виде ее, его как будто осенило.
Пять лет подряд он день за днем строил в своей душе стену, незаметно кладя камень на камень: легкий дурман, мелкие самообманы, уход от сомнений и серьезных размышлений, погруженность в работу, зацикленность на политических лозунгах… Такой была эта стена, рыхлая, ничем не скрепленная, высоченная и стоявшая на его пути, хотя он еще даже не осознал ее появления. А тут эта стена вмиг развалилась, он увидел, что решение за него уже принято, и понял, что она рухнула именно потому, что ее существование стало ненужным; то, что происходило за ней, теперь должно было открыться всем — как если бы он годами тайком строил какое-то здание и наконец-то закончил его; он оказался запертым изнутри, а ключ потерял; в полном отчаянии он ощупывал и осматривал замок. Но теперь Господь одним ударом разрушил его…
Ганс громко застонал и упал в объятия матери; она тут же разомкнула руки и с любовью посмотрела в его искаженное лицо:
— У меня и вправду появилось такое чувство, будто тебя годами не было рядом со мной.
— Я действительно далек от тебя, мама, и не знаю, вернусь ли… Ах, если б я хотя бы мог заплакать… Послушай, — заговорил он вдруг страстно, торопливо подыскивая слова, — мне кажется, что во мне бродит какая-то гадкая жидкость, которая хочет вырваться наружу, но не может. Я не в силах заплакать!
Ганс опять отбросил папку в сторону; у матери просто сердце разрывалось при виде его несчастных глаз. Зная, как он не любит всяких нежностей, она осторожно взяла его руки в свои и, не почувствовав сопротивления, ласково погладила их.
— Мальчик мой дорогой! — Голос фрау Бахем дрожал от переполнявшей ее нежности. — Ты должен всегда помнить, что я тебя люблю, люблю, несмотря ни на что. Даже если ты полагаешь, что должен сомневаться в Господе — и эта участь тебя не минует, — никогда не сомневайся в моей любви. Нет ничего в мире, что могло бы оторвать меня от тебя, я тебя освобожу даже из когтей дьявола. Всегда помни об этом.
Ганс удивленно смотрел на мать, ее красивое лицо светилось необыкновенным счастьем.
— Так странно, но многие сыновья предают своих матерей, следуя зову Бога. Сдается, твоя участь легче, ты мог бы остаться верным и Богу, и мне…
Ганса до такой степени терзали душевные муки, что он лишь с большим усилием смог ответить — у него перехватило горло:
— Значит, мама, ты думаешь, что раз я отвернулся от Бога, то мне следует остаться верным хотя бы тебе, чтобы вернуться на праведный путь… — Он высвободил свои руки, и лицо его исказилось болью, а веки плотно сомкнулись. — Нет и нет. — Казалось, он упрямо повторяет затверженную мысль. — Я не стою на неверном пути… Я… — Где-то вдалеке часы пробили восемь, и он сразу заторопился к выходу, но во внезапном порыве чувств еще раз прижался к матери и попросил едва слышно, до неузнаваемости изменившимся голосом: — Ты можешь считать, что я заблуждаюсь, но никогда не верь, что я могу совершить дурной поступок.
Торопливость, с которой он прощался с ней, так глубоко задела мать, что она с большим трудом удержалась от слез; даже в этих его последних словах, сказанных тихо и искренне, она отчетливо услышала желание поскорее закончить разговор. Он и в самом деле так отдалился от нее, что не мог уделить ей даже эти полчаса, впервые за много лет… Ей уже мерещилось, будто его тянуло прочь не по своей, а по чьей-то чужой воле; да, его отвращало от нее чуждое, дьявольское начало. Он стремился к этому слепому и злобно ухмыляющемуся фантому — к власти. Сердце ее бешено колотилось от ужаса. Но она собралась с силами и перекрестила сына, медленно, с глубоким чувством и непривычной для нее торжественностью. Это было то немногое, что она могла дать ему с собой. Потом она посторонилась, освобождая дорогу к двери, так как поняла: больше он ничего ей не скажет. Ганс пожал матери руку, еще раз взглянул на нее, попытался улыбнуться. И она услышала, как сын торопливо сбегает по лестнице; точно так же, перемахивая через ступеньки, он спускался маленьким мальчиком, когда опаздывал в школу, но теперь ей казалось, что после каждого его шага у нее должно разорваться сердце; ей оставалось только молиться.