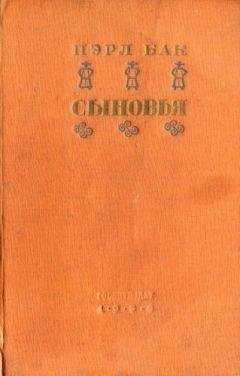Тогда рабыня старшей невестки, из любопытства оставшаяся послушать, побежала к своей госпоже и шопотом, ничего не утаив, рассказала ей все, что говорила другая:
— Госпожа, она говорит, будто бы ты такая важная, что господин до-смерти тебя боится, не смеет даже любить свою маленькую наложницу без твоего позволения, и не дольше, чем ты позволишь, — и все слушали и смеялись над тобой!
Госпожа побледнела и опустилась на стул возле стола в главной комнате, а служанка снова убежала и вернулась, едва переводя дух:
— А теперь она говорит, что ты любишь священников и монахинь больше, чем собственных детей, а всем известно, что они охотники тайно грешить.
Такой низости госпожа не могла вынести, — она встала и велела служанке немедленно позвать к себе привратника. Служанка снова побежала, очень довольная и возбужденная, потому что не каждый день бывает такое развлечение, и привела привратника. Это был сгорбленный, старый батрак, который обрабатывал когда-то землю Ван Луна, и так как он был человек старый и преданный и кормить его на старости лет было некому, то ему дозволили стеречь ворота. Как и все в доме, он боялся госпожи и стоял перед нею, поминутно отвешивая поклоны, а она говорила со свойственной ей важностью:
— Я должна выполнить свой долг, так как господина моего нет дома и он не знает об этом непристойном шуме, и брата его тоже нет, чтобы распорядиться в доме, а я не желаю, чтобы простой народ глазел с улицы на наш дом, и приказываю тебе закрыть ворота, если невестка останется на улице, пускай останется, а если она спросит, кто велел запереть ворота, скажи, что я велела, а ты должен меня слушаться.
Старик еще раз поклонился, вышел, не говоря ни слова, и сделал, как ему было приказано. Невестка все еще стояла за воротами, очень довольная, что толпа смеется, и не заметила, что ворота медленно закрывались и за ее спиной осталась совсем узкая щель. Тогда старый привратник приложил рот к этой щели и хрипло прошептал:
— Эй, госпожа!
Она обернулась и, увидев, что случилось, бросилась назад, толкнула ворота и вбежала во двор, все еще держа ребенка у груди и набросилась на старика:
— Кто тебе велел запирать от меня ворота, старый пес?
И старик ответил смиренно:
— Госпожа велела тебя оставить на улице, она не желает, чтобы перед воротами шумели. А я тебе сказал, что сейчас запру.
— А разве это ее ворота, чтобы не пускать меня в мой собственный дом? — И громко бранясь, она бросилась на невесткин двор.
Но невестка, предвидя это, ушла в свои комнаты, задвинула дверь засовом и погрузилась в молитвы, и хотя крестьянка стучала и колотила в дверь изо всех сил, она ничего не добилась, и все, что она слышала, было упорное монотонное бормотание молитв.
Тем не менее оба брата, разумеется, узнали о ссоре в тот же вечер, каждый от своей жены, и, встретившись утром на улице по дороге в чайный дом, они уныло посмотрели друг на друга, а младший сказал, криво улыбаясь:
— Наши жены доведут нас до вражды, а мы не можем себе этого позволить. Лучше их отделить одну от другой. Ты возьми те дворы, на которых живешь, и ворота, что выходят на главную улицу, пусть будут твои. Я останусь на своих дворах, пробью ворота в переулок, это и будут мои ворота, и тогда мы будем жить в мире. Если младший брат вернется домой, пусть берет тот двор, где жил наш отец, а если первая наложница к тому времени умрет, то и ее двор.
Ночью жена много раз слово в слово повторила Вану Старшему все, что случилось, и так его доняла, что на этот раз он дал клятву быть твердым и не уступать; нет, на этот раз он поступит так, как подобает главе семьи, когда хозяйка дома оскорблена женщиной, которая стоит ниже, чем она, и обязана оказывать ей уважение. И теперь, выслушав речь брата, он вспомнил, как жена донимала его ночью, и нерешительно упрекнул:
— Но твоя жена поступила очень дурно, она высмеивала мою жену перед толпой простонародья, и нельзя, чтобы это кончилось так просто. Ты должен поколотить ее хоть немного. Я на этом настаиваю.
Тогда в хитрых глазах Вана Среднего блеснули искорки, и он начал уговаривать брата:
— Мы с тобой — мужчины, брат мой, и знаем, что такое женщины и как невежественны и глупы самые лучшие из них. Мужчинам нечего вмешиваться в бабьи дела, а между собой мы сумеем столковаться. Это верно, что жена моя вела себя, как дура, — ведь она деревенская женщина и больше ничего. Передай госпоже, что я так сказал и что я извиняюсь пред ней за свою жену. Извиниться мне ничего не стоит. А потом отделим наших жен и детей и будем жить в мире, встречаться же и обсуждать наши общие дела мы можем в чайном доме.
— А… а как же, — начал Ван Старший, заикаясь, потому что не умел говорить так быстро и плавно, как брат.
Ван Средний был умен и сразу поднял, что брат не знает, как ответить жене, чтобы угодить ей, и быстро возразил:
— Послушай, старший брат, скажи своей жене так: «Я отделил дом брата от нашего дома, и больше тебя не будут беспокоить. Теперь они наказаны».
Старший брат засмеялся от удовольствия, потирая свои жирные бледные руки:
— Позаботься же об этом, не забудь!
И Ван Средний ответил:
— Сегодня же позову каменщиков!
Так оба они угодили своим женам. Младший сказал жене:
— Тебя не будет больше беспокоить эта городская недотрога и гордячка. Я сказал старшему брату, что не желаю больше жить с ней под одной кровлей. Нет, я хочу быть хозяином в своем доме, а не смотреть из его рук, да и ты не будешь у нее на побегушках.
А старший пошел к жене и сказал громким голосом:
— Я все устроил и наказал их как следует. Теперь тебе нечего тревожиться. Я сказал брату: «Я отделю тебя от своего дома — и тебя, и жену твою, и детей; мы возьмем себе наши дворы у больших ворот, а ты пробьешь маленькие боковые ворота в переулок с восточной стороны, и пусть твоя жена больше не беспокоит госпожу. Если ей нравится околачиваться у ворот и кормить грудью детей на улице, как свинья кормит поросят, то хоть нас-то позорить не будет!» Вот что я сделал, мать моих сыновей, и ты успокойся, тебе незачем ее больше видеть.
Так оба брата угодили своим женам, и каждая из них считала себя победительницей, а другую побежденной. После этого братья больше сблизились, и каждый из них думал, что он человек очень ловкий и понимает женщин. Они были очень довольны сами собой и друг другом и страстно желали, чтобы время траура прошло поскорее и можно было назначить день для встречи в чайном доме и обсудить продажу тех земельных участков, которые им хотелось сбыть с рук.
В этом ожидании прошли три года, и настало время, когда траур по Ван Луну можно было снять. День для этого выбрали по календарю; в названии дня был подобающий для того события знак, и Ван Старший приготовил все, что было нужно, для обряда снятия траура. Он поговорил с женой, — оказалось, что она и тут знает, как нужно поступить, и он сделал все так, как она сказала.
Сыновья, и жены сыновей, и все, кто был близок Ван Луну и носил по нем траур в течение трех лет, оделись в яркие шелка, а халаты женщин были красные разных оттенков. Поверх этих халатов они надели одежды из посконного холста, которые носили три года, и по обычаю тех лет вышли за главные ворота, где была приготовлена большая груда денег из золотой и серебряной бумаги и стояли священники, готовясь ее зажечь. Потом, когда вспыхнуло пламя, все, кто носил траур по Ван Луну, сняли его и остались в ярких одеждах.
Выполнив обряд, все вошли в дом, поздравляя друг друга с тем, что дни скорби кончились, и отвешивая поклоны перед новой табличкой с именем Ван Луна. Старую табличку сожгли, а перед новой поставили жертвенное вино и кушанья. Эта новая табличка должна была оставаться на вечные времена, и сделали ее, как полагается, из красивого твердого дерева и положили в маленькую деревянную шкатулку. Когда она была готова и отлакирована дорогим черным лаком, сыновья Ван Луна разыскали самого ученого человека в городе, чтобы надписал на ней имя Вана Луна и имя его души.
Во всем городе не было никого ученее сына старого конфуцианца. Старый конфуцианец был некогда учителем сыновей Ван Луна и в молодости ездил держать правительственные экзамены. Правда, он их не выдержал, но все же старик был ученее тех, которые никуда не ездили, а всю свою ученость он передал сыну, и этот сын тоже был ученый. Поэтому, когда сына конфуцианца пригласили для такого почетного дела, он пришел, сильно выворачивая ноги, как это делают ученые, одежды его развевались во все стороны, и очки спускались на самый кончик носа. Войдя в дом, он уселся за стол перед табличкой, поклонившись сначала столько раз, сколько следовало поклониться, а потом принялся писать, откинув длинные рукава и выбрав самую тонкую кисточку из верблюжьего волоса. Кисточка, и тушь, и все, что полагалось, были новые, как и следует для такого дела, и он принялся надписывать табличку. Дойдя до последнего знака, он остановился перед тем, как сделать последний взмах кисточкой, и, закрыв глаза, углубился в размышления, чтобы лучше постигнуть дух Ван Луна и заключить его в последнем штрихе последнего слова.