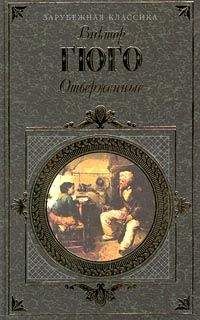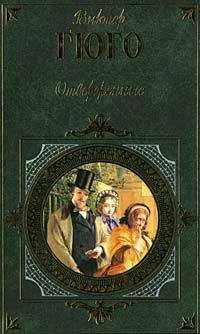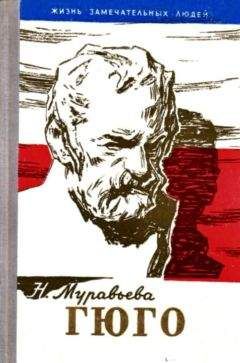Спустя немного времени после упомянутого выше письма, если верить городским слухам, епископ совершил более смелый поступок, чем посещение гор, занятых разбойниками.
В окрестностях Диня жил в совершенном уединении один человек. Он, — но лучше уже сразу сказать ужасную вещь, — был когда-то членом Конвента{20}. Звали его Ж. Это имя со страхом упоминалось жителями маленького провинциального городка.
Вообразите себе, ведь он принадлежал к тем временам, когда называли друг друга гражданами и говорили все друг другу «ты»!
Ведь это чудовище: если он и не подавал голоса против короля, то все-таки судил его. Этот страшный человек был почти что цареубийцей. Как это случилось, что его не отдали под суд при восстановлении на престоле законных королей? Казнить его хотя и не стоило, но было бы не лишним выгнать из отечества! Надо же подавать хороший пример и т. д.! Притом он был безбожником, как и все люди его пошиба.
Так эти городские утки судили коршуна!
Но был ли на самом деле Ж. коршуном?
Пожалуй, если судить по суровой обстановке его жизни. Версты за три от города, вдали от всех дорог, в заросшей долине, у него был клочок земли, а местом его жилища служила какая-то дыра: ни соседей, ни прохожих. С тех пор как он поселился в этой долине, тропинка, ведшая к ней, заросла травою. Про это место говорили как про жилище убийцы. Однако время от времени епископ посматривал в ту сторону, которая обозначалась на горизонте группой деревьев. Он говорил: «Там в одиночестве страдает душа». Совесть же подсказывала ему: «Я должен навестить этого человека». Но казавшаяся такою естественною вначале мысль эта после минутного размышления представлялась ему невозможной, невыполнимой, почти отталкивающей. На самом же деле епископ держался того же мнения о Ж., как и все, и если он и не ненавидел его, то питал к нему чувство, близкое к ненависти — отчуждение, может быть, не сознавая даже этого ясно.
Всегда ли пастырь должен удаляться от зараженной овцы? Нет. Смотря по тому, какая овца.
Добрый епископ был смущен. Несколько раз он отправлялся к долине, но с полдороги возвращался обратно. Однажды по городу разнесся слух, что пастух, прислуживавший г-ну Ж., прибежал в город за доктором, старый негодяй умирал от паралича и не переживет, наверное, этой ночи. «Слава богу!» — прибавляли при этом некоторые.
Епископ взял свой посох, надел рясу, чтобы прикрыть подрясник, которые, как мы уже уже читали раньше, изнашивал до ветхости, и еще потому, что вечером мог подняться холодный ветер, и вышел.
Солнце почти уже село, когда епископ дошел до места своего назначения. С замиранием сердца увидел он, что подходит к логовищу. Перепрыгнув через канаву, он перешагнул через низенькую изгородь, вошел на двор и вдруг позади сорных трав и кустарников увидел само жилище. Это была маленькая, низенькая чистенькая хижинка с вьющимися вокруг фасада растениями.
Перед дверью на старом крестьянском с колесами кресле сидел седой старик и улыбался солнцу.
Возле него стоял мальчик-пастушок и протягивал ему чашку с молоком.
В то время как епископ разглядывал его, старик проговорил:
— Благодарю тебя, мне больше ничего не нужно, — и с улыбкой стал глядеть на ребенка.
Епископ приблизился. Услышав шум шагов, старик с удивлением обернулся.
— С тех пор как я живу здесь, это первое посещение. Кто вы, сударь?
— Мое имя Бьенвеню Мириель.
— Бьенвеню Мириель!.. Я слышал это имя. Не вас ли народ называет преосвященным Бьенвеню?
— Да, меня.
Старик, полуулыбаясь, продолжал:
— В таком случае вы мой епископ?
— Отчасти.
— Войдите, сударь!
Ж. протянул ему руку, но епископ, не подавая своей, сказал:
— Я рад, что меня обманули; на мой взгляд, вы совсем не так больны.
— Я выздоровею скоро. Смерть возьмет меня через три часа, не более, ведь я немного знаком с медициной и знаю признаки смерти, — начал говорить Ж. — Вчера у меня похолодели только ноги, сегодня уже колени, а сейчас я чувствую, что похолодел до пояса; когда дойдет до сердца — всему будет конец. Как прекрасно солнце, не правда ли? Я попросил вывезти меня, чтобы последний раз полюбоваться природой. Вы можете говорить со мною, это меня не утомляет. Вы хорошо сделали, что пришли посмотреть на умирающего человека, хорошо, когда в эту минуту есть свидетель. У каждого своя мания: мне хотелось бы дожить до рассвета, но я знаю, что не проживу и трех часов. Наступит ночь. А впрочем, не все ли равно? Окончить жизнь — простое дело! Для этого не нужно ждать утра. Я умру при свете звезд!
Старик обернулся к мальчику:
— Ступай спать. Ты уже не спишь другую ночь и устал.
Ребенок ушел в хижину.
Старик, проводив его глазами, сказал как бы про себя:
— Пока он будет спать, я умру. Сон и смерть — добрые соседи.
Все это не так тронуло епископа, как можно было бы ожидать. Он не чувствовал присутствия Бога при смерти такого неверующего человека. И у великих людей есть свои слабости. Епископ, так не любивший, когда его называли «ваше преподобие», был поражен, что старик не назвал его так, и у епископа вдруг явилось желание обратиться к больному с той грубой бесцеремонностью, которая так обычна докторам и священникам, но которую он никогда не позволял себе. Этот человек — представитель народа, когда-то имевший власть; и, может быть в первый раз в жизни, епископ почувствовал прилив суровости. Между тем Ж. всматривался в него с ласковой приветливостью и смирением умирающего человека.
Епископ же, со своей стороны, смотрел на него с любопытством, сознавая, что любопытство без симпатии — оскорбление: он, наверное, почувствовал бы упрек совести, будь на месте Ж. другой человек, но Ж. казался ему вне закона, даже вне закона милосердия.
Начинавший уже холодеть, Ж. держался прямо и говорил еще громко; он был одним из тех восьмидесятилетних старцев, которые возбуждают удивление у физиологов. В эпоху революции встречалось много таких людей. Видно было, что этот старик много пережил на своем веку. Близкий к смерти, он сохранил все движения здорового человека: его взгляд был ясен, речь тверда, даже по движению плеч нельзя было предполагать скорой кончины. Азраил, ангел смерти магометан, увидев его, наверно, ушел бы обратно, подумав, что он ошибся дверью. Казалось, Ж. умирает потому только, что сам того желает. Агония его была добровольная. Только ноги были неподвижны. Смерть держала их в своих руках. Ноги были холодны и мертвы, а голова жила и работала с полной ясностью. Ж. в эту торжественную минуту походил на короля восточной сказки с живым туловищем и мраморными ногами. Епископ сел на близлежащий камень.
— Я вас поздравляю, — сказал он тоном упрека. — Вы все-таки не вотировали за смерть короля?
Казалось, Ж. не заметил горечи в слове «все-таки». Улыбка исчезла с его лица, когда он отвечал:
— Не очень-то поздравляйте меня, сударь, я вотировал против тирана.
— Что вы хотите сказать этим?
— Я хочу сказать, что у человека есть тиран — невежество. Я голосовал против этого тирана. Людьми должна руководить только наука…
— А совесть? — перебил епископ.
— Это одно и то же. Совесть — это то прирожденное количество знаний, которыми мы обладаем.
Преосвященный Бьенвеню слушал слегка удивленный: в этой речи было много нового для него.
— Что касается Людовика Шестнадцатого{21}, то я сказал «нет». Я не считаю себя вправе убивать человека, но я признаю долгом искоренять зло. Я голосовал за уничтожение тирании, то есть за уничтожение проституции для женщин, рабства для мужчин и невежества для детей. Голосуя за республику, я голосовал именно за это. Я голосовал за братство, за согласие, за зарю новой жизни. Я помогал низвержению предрассудков и заблуждений. Гибель их порождает свет. Мы уничтожили старый строй: падая, эта старая чаша опрокинулась на человечество и превратилась в источник радости.
— Радости смешанной, — сказал епископ.
— Вы можете сказать — радости тревожной, а теперь, после возврата к прошлому, называемому 1814 годом, радость испарилась. Увы! Признаю, что созидание было неполное, мы разрушили старый порядок фактически, но не могли уничтожить идей, укоренившихся в понятиях людей. Мало уничтожить злоупотребление, надо исправить нравы. Мельница сломана, но ветер остался.
— Вы разрушили, может быть, то, что было и полезно, но я восстаю против разрушения, соединенного со злом.
— У справедливости есть своя злоба, господин епископ, но ее злоба — элемент прогресса. Что бы там ни говорили, но французская революция — движение в высшей степени гуманитарное. Может быть не совершенное, но высокое. Она указала на все общественные язвы, она прояснила умы, она влила в цивилизацию новую живую струю. Она была прекрасна.