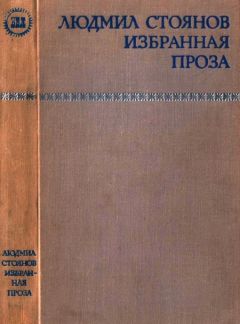— Кто тут скандалит? — ревели они. — Кто мешает выборам?
— Кто мешает выборам! Какое нахальство! — кричал тот горластый. — Товарищи, не отступайте! Их цель — не дать нам голосовать! Они боятся нас!
Началась свалка. Часть толпы отступила и ударилась в бегство. Остальные отбивали нападение банды погромщиков, ревевших:
— Бейте этих собак! Предатели!
Но это было нелегко сделать. Время от времени то один, то другой хватался за голову, окровавленными руками прокладывая себе дорогу в толпе и удирал.
Схватка продолжалась недолго, но после нее по всей улице виднелись капли крови: кровь на тротуарах, на земле…
На другой день общинный глашатай объявил под барабан результаты выборов: правительство получило полное большинство! Выборы прошли тихо и мирно, без инцидентов, закончил глашатай.
Однако он не упомянул, что был выбран и один социал-демократ.
НЕОЖИДАННАЯ РАДОСТЬ
Меня встретила хозяйка.
— К тебе гости, — сказала она. — Уже полчаса, как ждут…
— Гости? — Я старался разглядеть двоих мужчин, стоящих в дверях.
— Смотри ты, как он вырос! — сказал старший, обращаясь ко мне, и прибавил тихонечко: — Милко, ты меня не узнаешь?
Я не верил своим глазам: дедушка Продан и дядя Вангел!
Дедушка Продан будто бы спокойно поцеловал меня в щеку, но я почувствовал, как меня обожгла его слеза.
— Учишься? Мы едва тебя нашли. Спрашивали в школе. Ох, как ты вырос!
Он без причины смеялся, просто от радости.
Когда они приехали? Что будут делать в Болгарии?
Дедушка Продан сел на край постели, дядя Вангел сначала стоял, потом осторожно присел на деревянный сундучок Христоско.
Через отворенную дверь лился яркий свет, и лица обоих мужчин казались бронзовыми.
Зачем они приехали в Болгарию? Да ведь они переселенцы и больше уже не вернутся в Турцию.
Рассказ дедушки Продана был на редкость грустным.
После восстания[53] жизнь болгар стала невыносимо трудной. До этого они работали в Салониках, в Кукуше, строили дома, наводили мосты. Перебивались, даже скопили деньжонок. Поставили в деревне новый дом, двухэтажный. Дядя Вангел женился, у него уже родились трое детей. Тогда жизнь была другая.
Во время восстания село пострадало. Много молодежи погибло. Крестьяне собрали две тысячи золотых — войска стояли с пушками, наведенными на село. Паша взял деньги к отвел войско, пощадил село.
— Ощетинились турки, куда ни пойдешь, глаза им мозолишь. Для таких, говорят, как вы, бунтовщиков, хлеба нет. Новые налоги, взяточничество! — глубоко вздохнул дедушка Продан и покачал головой. Потом снова начал: — Село без учителя. Дети остаются неграмотными. Земля не родит — только мелкую кукурузу и хилую рожь. До николина дня не хватает! Собрались мы однажды, посовещались. Что тут делать дальше? Поедем в свободную Болгарию! Там и работа найдется, там и родные есть, помогут. Сказано — сделано. Поднялись мы, двадцать семейств, и, где упросили, где взятку дали — вырвались оттуда. Пока есть руки, — он показал свои черные корявые руки с надувшимися жилами и искривленными работой суставами, — мы не боимся, сумеем заработать себе на кусок хлеба. Ведь здесь мы среди братьев, среди болгар.
Дедушка Продан был все такой же оптимист, не терял веру в людей.
Они уже взяли с общинных торгов подряд на постройку моста через реку, пересекавшую базарную площадь, ведь они мастера по сводам и мостам…
— А как тут наши, отец, мать, братья?..
Дедушка Продан наклонил голову, приложил ладонь к уху — видимо, совсем стал туг на ухо — и с любопытством уставился на меня.
Я рассказал про нашу жизнь в селе, про болезнь отца, но не стал говорить, что жизнь семьи становится все труднее, что детей уже четверо и хлеба не хватает.
— Очень хочу их повидать, — вымолвил дедушка Продан. — Ох, до чего хочу их повидать! Ты меня проводишь… вот только отдохну немного!
Дедушка Продан лег, а я повел дядю Вангела показать город. Перед военным клубом играл военный оркестр. Дядя Вангел остановился и заслушался. Его заинтересовала работа дирижера. Она ему показалась легкой и какой-то смешной. Только машет палочкой туда, сюда! Я объяснил ему, что дирижер фигура важная и что без него не может существовать оркестр. Он объединяет все инструменты и приводит к согласному звучанию.
Дирижер Эмануил Манолов — наш любимец. Он сочинял песни, которые мы пели в хоре. И был приятелем Христоско, а это много значило. Дядя Вангел, человек необразованный, не разбирался в таких вещах. Он несколько сконфузился. А когда оркестр заиграл попурри из народных песен, сочиненное дирижером, дядя Вангел подумал: ишь ты, что делается на свете! Он впервые слышал настоящий оркестр, если не считать цыганских музыкантов в селе.
— Хорошо, — сказал он. Потом, улыбнувшись, добавил: — Что правда, то правда. Приятно слушать эту музыку…
Его небольшие черные глазки улыбались все так же простодушно и тепло, — он еще так молод, хотя в тонких висячих усах и на висках поблескивали серебряные нити, а труд и невзгоды избороздили его лицо разбегающимися во все стороны морщинами.
Он хвалился их новой жизнью. Они осели в деревне Куклен. Купили у греческого переселенца дом, около полутора гектаров земли, небольшой виноградник…
Мы поднялись в старую часть города. Узкие крутые улочки с разбитой булыжной мостовой и высокими двухэтажными домами. Здесь террасы противоположных домов расположены так близко, что люди могут через улицу подавать друг другу руку. Маленькие окна, низкие заборы. В грязных домах женщины стирают, и помои текут до самой середины улицы… Кричат дети, у дверей сидят старухи и оглядывают нас…
Когда мы вернулись, дедушка Продан нас ждал. Я только сейчас разглядел, как он изменился! Похудел, волосы поредели. Он похлопал меня по плечу и, улыбаясь, приподнял.
— Эге! Когда-то перышком был, а теперь настоящий мужчина, ученый парень…
И он с веселым старческим смехом прижал меня к себе. Потом посмотрел как-то виновато. Не пересолил ли он со своей нежностью?
— Приходи как-нибудь познакомиться с теткой, с детьми… — И он взглянул на меня проницательно и в то же время робко. — А? Придешь?
— Приду, дедушка, ну как же не прийти? — уверяю я его, потому что мне действительно очень хочется повидать и незнакомую тетку, и детей. — Мы часто ходим в монастырь Святой целитель, а оттуда два шага…
В голове у меня толпились разные мысли. Как сильно я любил дядю Вангела и дедушку Продана! Но почему-то стеснялся признаться в этом самому себе… Я вспомнил наше прощание там, на турецком посту, когда они уезжали обратно. Как мучительно сжималось у меня сердце: вот они уедут, и я больше никогда их не увижу… А теперь они опять здесь, но я смотрю на них равнодушно, и они мне словно чужие… Я укорял себя за это и осуждал… понимая, что они волновались, но не смели выразить свои чувства. Я их сковывал.
Тринадцатая глава
Родная земля
Когда я еду по Текии, я прежде всего ищу взглядом минарет сельской мечети. Сначала два ряда покрытых виноградниками холмов смыкаются за моей спиной. Голой степи становится все меньше, стена тополей и ольхи растет, и сквозь нее, как мачта невидимого корабля, подымается к небу одинокий минарет. Я еду к нашим — отец написал, что и он со всей семьей перебирается в город, так как получил должность в Народном банке. Он звал меня пожить немного в селе и вместе с ними вернуться обратно.
Даже и Воронок, лошадка тети Йовки, радостно пофыркивает, словно чувствуя приближение знакомых и родных мест. Текия — пустая равнина, песчаная и бесплодная; трава на ней высохла и пожелтела еще до георгиева дня.
Колеса телеги катятся бесшумно. Дорога расстелилась мягким одеялом, не слышно даже топота копыт.
Проходит много времени, пока картина наконец меняется. Лошадка машет хвостом, может быть радуясь, что вот кончается степь, начинаются виноградники, потом бахчи и рисовые поля. На каждом шагу вода, холодные родники, хочешь — пей, не хочешь — спокойно продолжай путь дальше.
Воронок прядает ушами, ныряет в прохладную тень — сердце его радостно бьется, все это ему давно знакомо. Минарет за деревьями, словно маяк, показывает нам, что мы уже близко. Он всегда воскрешает во мне одно и то же воспоминание.
На верхнюю площадку давно не поднимался муэдзин и не призывал правоверных к молитве. Конусообразная крыша сорвана сильной бурей, теперь вместо нее гнездо аиста. Люди прозвали аиста «ходжа». Когда он начинает щелкать клювом, подняв голову к небу, все говорят:
— Ходжа кричит.
С тех пор как уехали переселенцы, мечеть пришла в упадок. Время источило ее, как болезнь, разъело стены, разрушило оконные решетки. Кладбище в ее дворе потонуло в бурьяне, потолок турецкой школы провалился. Под стрехами поселились совы. Внутри минарета ступени обвалились, и уже было невозможно подняться наверх.