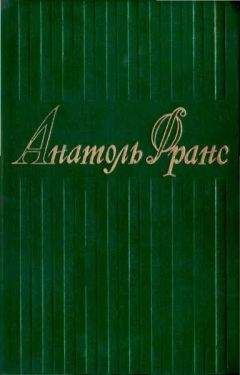Так спорили между собой эти достойные люди, родившиеся вскоре после бурь, потрясших до основания весь общественный строй, спорили, никогда не убеждая один другого и не замечая явной бесполезности своих рассуждений. Оба они были французами и любили красноречие.
Между тем у Жюстины завелся обожатель, и она влюбилась. Я сразу угадал это. По каким признакам? По тревожному нетерпению, с каким она подстерегала почтальона? По радостному блеску в глазах и румянцу на похорошевшем лице, когда она получала письмо? По тому, как она прятала его за корсаж? По сиянию, исходившему от всего ее существа? По странным и непонятным сменам настроения? По внезапным взрывам веселости, по неожиданным тихим слезам? Сам не знаю. Но все в ней выдавало мне ее чувства.
И вдруг Жюстина стала грустной и мрачной. Румянец ее поблек. Под глазами легли темные тени. Она похудела. Слова от нее нельзя было добиться. Она плотно сжимала побледневшие губы, словно стараясь сдержать жалобы и упреки. По вечерам она раскладывала на кухонном столе засаленные карты, гадала по ним, потом сердито смешивала всю колоду. Мало-помалу она впала в подавленное состояние. Не глядела на свои кастрюли, забывала пить и есть. Ее движения стали вялыми и неловкими, и хотя она изредка еще и била посуду, то не как прежде, в порыве неистового рвения, а потому, что от слабости у нее опускались руки и немели пальцы. Я не сомневался, что страдания Жюстины вызваны несчастной любовью и что обожатель покинул ее. Да и нельзя было в этом сомневаться. В лавке г-жи Летор я видел гравюру «Покинутая», на которой была изображена молодая женщина в черном бархатном платье, сидящая на каменной скамье в осеннем лесу, под облетевшими ветвями. Жюстина на кухне, неподвижно застывшая на соломенном стуле, была похожа на покинутую, хотя и далеко не так красива. То же скорбное, унылое выражение, тот же взгляд, устремленный вдаль, те же поникшие руки, безжизненно лежащие на коленях. Состояние Жюстины вызывало во мне глубокий интерес. Догадываясь о причине ее горя, я жаждал, чтобы она доверилась мне и позволила утешить себя, но не надеялся на это. Я знал, что она не поделится со мной своими невзгодами, считая неудобным говорить о таких делах с мальчишкой, и к тому же она была уверена, что я ничего не пойму: ее мнение обо мне установилось раз и навсегда. Я мог только безмолвно сочувствовать ей.
Как-то утром она долго, больше часу, беседовала с матушкой наедине, в комнате с розами на обоях. Она вышла оттуда в слезах, но с просветленным лицом, и я уже не сомневался, что она поведала свое горе хозяйке и получила утешение. Не боясь показаться нескромным, я сказал матушке:
— Жюстину покинул жених. Как это грустно! Матушка взглянула на меня с удивлением.
— Она сказала тебе?
— Нет, мама, но я сам знаю.
И я объяснил, что благодаря своей проницательности разгадал тайну Жюстины, но из деликатности ни разу об этом не намекнул.
— Очень хорошо быть деликатным, — ответила моя дорогая матушка, — но было бы еще лучше не пытаться раскрыть чужую тайну, которая ни в коей мере тебя не касается.
Она говорила строго, но мне показалось, что она невольно восхищается моей прозорливостью.
Готов поклясться головой милого невинного ребенка, каким я был в те годы, что школьные занятия в классе г-на Кротю были сплошной цепью несправедливостей. Этот человек оплетал нас незаслуженными придирками, как паук паутиной. И могу утверждать, нисколько не хвастаясь, что из тридцати мальчишек, которым он преподавал, именно мне чаще и больнее всех доставалось от его злого нрава. Привыкнув с детства сталкиваться с людской жестокостью и несправедливостью, я бы, пожалуй, не питал к нему злобы за это. Но я не мог ему простить его безобразия. Надо полагать, я уже в столь юном возрасте предчувствовал высокие моральные истины, усвоенные мною впоследствии, и уже тогда некий бесенок подсказывал мне, что самый непростительный из грехов — это грех против красоты. Я стал на сторону муз и харит против г-на Кротю, который тяжко оскорблял их всей своей особой. Жалкое существо! Его грубые толстокожие руки способны были смять и раздавить все, к чему прикасались; красивые, изящные вещи не доставляли ему удовольствия. Его хмурый подозрительный взор не замечал ничего прекрасного. Лицо его было угрюмо; оно принимало довольное выражение лишь в те минуты, когда, высунув мокрый язык, учитель заносил в грязную тетрадь перечень несправедливых наказаний. Подобно мужлану, о котором, не помню где, пишет Непомюсен Лемерсье[297], он плевался во все стороны и сморкался оглушительно, как труба. Вот за все это я его и невзлюбил. Я ненавидел его не столько за его поступки, сколько за него самого; то была ненависть упорная, направленная не на преходящие факты, но на неизменные природные свойства. Не, быть может, эта лютая глубокая ненависть никогда бы и не проявилась; быть может, я навеки затаил бы ее в душе, если бы один случай, по вине самого г-на Кротю, не вызвал ее вспышку.
Однажды, не помню уж, по какому поводу, он рассказал нам историю сатира Марсия, который дерзнул состязаться с Аполлоном в игре на флейте; он был побежден, и бог музыки заживо содрал с него кожу.
— У Марсия, — сказал нам г-н Кротю, — была звериная морда, курносый нос, нечесаные космы, рога на лбу, длинные мохнатые уши, лошадиный хвост и козлиные ноги.
Описание сатира точь-в-точь походило на самого г-на Кротю, это был вылитый его портрет, за исключением разве рогов, козлиных копыт и лошадиного хвоста, наличия которых мы не имели оснований заподозрить у нашего преподавателя. Все же остальное полностью совпадало, даже большие волосатые уши. Судя по приглушенным смешкам, шушуканью и возгласам, которыми было встречено описание Марсия, это сходство поразило весь класс. Весьма возможно, что и я вскрикнул вместе с другими и присоединился к общему смеху; но я тут же погрузился в размышления. Хотя и признавая виновность Марсия, я не мог всецело одобрить поступок Аполлона с его соперником и, по правде говоря, находил наказание чересчур жестоким. Однако, отождествив сатира с г-ном Кротю, я под конец открыл в этой каре глубокий смысл и высшую справедливость. Я набросал в тетрадке портрет Марсия и пытался неумелой рукой сочетать черты сатира и ученого педанта. Рисунок уже начал приобретать выразительность и становился довольно-таки уродливым, как вдруг г-н Кротю заметил его, выхватил у меня листок, разорвал в клочки и в награду за мое искусство наложил на меня какое-то нелепое и обидное наказание. Все было кончено. Я почуял в нем заклятого врага и ответил на его нападки презрительным смехом. Впоследствии я понял, что мне не следовало выражать свою ненависть так откровенно.
С тех пор в его присутствии я держался с презрительным высокомерием, обольщаясь надеждой, будто это больно его задевает. Я выказывал антипатию и отвращение к нему всеми способами, какие подсказывала мне мальчишеская фантазия. По правде говоря, он, вероятно, кое о чем догадывался, и его неприязнь ко мне еще более возросла. С желчной злобой и яростью обрушивался он на мои ошибки и промахи, но в особенности не мог переносить моих успехов. Я не отличался никакими особыми способностями или заслугами, но все же не был лишен сообразительности и порою проявлял признаки ума. Это-то и приводило в бешенство г-на Кротю. Если мне случалось дать верный ответ или в моем сочинении попадалась удачная фраза, — его физиономия злобно кривилась и губы дрожали от гнева. Я изнемогал под тяжестью незаслуженных наказаний. В справедливом негодовании я попытался возмутить против угнетателя весь класс. На переменах я громко бранил и поносил его. Я напоминал товарищам о его придирках, о его безобразии, о его длинных мохнатых ушах. Мальчишки не противоречили мне, никто за него не заступался, но страх перед учителем сковывал им языки: они молчали. Дома, за обедом, я не раз пытался раскрыть перед матушкой всю гнусность г-на Кротю. Увы! На всем свете не было человека, менее способного понять подобные разоблачения. Эта чистая душа, воспитанная на «Телемаке», представляла себе моих учителей в облике древнегреческих мудрецов и наделяла г-на Кротю чертами Ментора[298]. Изгнать из ее воображения этот почтенный образ и заменить его звероподобным рогатым чудовищем было бы не под силу даже самому искусному оратору. Я же взялся за дело крайне неловко, с явным пристрастием, все преувеличивая, приводя неправдоподобные случаи и бездоказательно утверждая, будто г-н Кротю прячет в своих широких коричневых брюках конский хвост. Что касается отца, то ничто не могло поколебать ни глубокого его уважения к ученой иерархии, ни слепого доверия, которое ему внушали люди даже всего менее этого достойные. Не удавалось мне также опорочить г-на Кротю в глазах моей доброй Жюстины. Слушая с недоверием мои жалобы на несправедливость учителя, она обычно говорила: