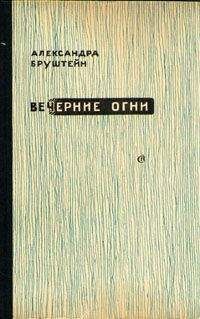И идет себе в клуб.
Аполлон Аполлонович одинок: и так уже тысячарится он в верстах; и ему одному не поспеть; не поспеть и Иванчи-Иванчевским. Козлородовых – тысячи; за ними стоит обыватель, которого Аблеухов боится.
Поэтому Аполлон Аполлонович и сокрушает лишь пограничные знаки своего кругозора: и места лишаются – Иванчевские, Тетерько, Сверчковы.
Козлородов бессменен.
Пребывая за пределами досягаемости – за оврагами, за колдобинами, за лесами – он винтит себе в Пупинске.
Хорошо еще, что пока он винтит.
Он винтить перестал
Аполлон Аполлонович одинок.
Не поспевает он. И стрела его циркуляра не проницает уездов: ломается. Лишь, пронзенный стрелой, кое-где слетит Иванчевский; да Козлородовы на Сверчкова устроют облаву. Аполлон Аполлонович из Пальмиры, из Санкт-Петербурга, разразится бумажною канонадой, – и (в последнее время) даст маху.
Обыватели бомбы эти и стрелы давно окрестили названием: мыльные пузыри.
Стрелометатель, – тщетно он слал зубчатую Аполлонову молнию; переменилась история; в древние мифы не верят; Аполлон Аполлонович Аблеухов – вовсе не бог Аполлон: он – Аполлон Аполлонович, петербургский чиновник. И – тщетно стрелял в Иванчевских.
Бумажная циркуляция уменьшалась за все эти последние дни; ветер противный дул: пахнущая типографским шрифтом бумага начинала подтачивать Учреждение – прошениями, предъявлениями, незаконной угрозой и жалобой; и так далее, далее: тому подобным предательством.
Ну и что же за гнусное обхождение в отношеньи к начальству циркулировало среди обывателей? Пошел прокламационный тон.
И – что это значило?
Очень многое: непроницаемый, недосягаемый Козлородов, асессор, где-то там, понаглел; и тронулся из провинций на Иванчи-Иванчевских: в одном пункте пространства толпа растащила на колья бревенчатый частокол, а… Козлородов отсутствовал; в другом пункте оказались повыбиты стекла Казенного Учреждения, а Козлородов – отсутствовал тоже.
От Аполлона Аполлоновича поступали проекты, поступали советы, поступали приказы: приказы посыпались залпами; Аполлон Аполлонович сидел в кабинете с надутою височною жилою все последние эти недели, диктуя за приказом приказ; и приказ за приказом уносился бешеной стреловидною молнией в провинциальную тьму; но тьма наступала; прежде только грозила она с горизонтов; теперь заливала уезды и хлынула в Пупинск, чтоб оттуда, из Пупинска, грозить губернскому центру, откуда, заливаемый тьмой, в тьму слетел Иванчевский.
В это время в самом Петербурге, на Невском, показалася провинциальная тьма в виде темной шапки манджурской; та шапка сроилась и дружно прошлась по проспектам; на проспектах дразнилась она кумачевою тряпкою (денек такой выдался): в этот день и кольцо многотрубных заводов перестало выкидывать дым.
Громадное колесо механизма, как Сизиф, вращал Аполлон Аполлонович; по крутому подъему истории он пять лет катил колесо безостановочно вверх; лопались властные мускулы; но все чаще вытарчивал из-под мускулов власти ни чему не причастный костяк, то есть вытарчивал – Аполлон Аполлонович Аблеухов, проживающий на Английской Набережной.
Потому что воистину чувствовал он себя обглоданным костяком, от которого отвалилась Россия.
Правду сказать: Аполлон Аполлонович и до роковой этой ночи показался иным его наблюдавшим сановникам каким-то ободранным, снедаемым тайной болезнью, проткнутым (лишь в последнюю ночь он отек); ежедневно со стонами он кидался в карету цвета вороного крыла, в пальтеце цвета вороного крыла и в цилиндре – цвета воронова крыла; два вороногривых коня бледного уносили Плутона.
По волнам Флегетона несли его в Тартар; здесь, в волнах, он барахтался.
Наконец, – многими десятками катастроф (сменами, например, Иванчевских и событьями в Пупинске) флегетоновы волны бумаг ударились в колесо громадной машины, которую сенатор вращал; у Учреждения обнаружилась брешь – Учреждения, которых в России так мало.
Вот когда случился подобный, ни с чем не сравнимый скандал, как говорили впоследствии, – то из бренного тела носителя бриллиантовых знаков в двадцать четыре часа улетучился гений; многие даже боялись, что он спятил с ума. В двадцать четыре часа – нет, часов в двенадцать, не более (от полуночи до полудня) – Аполлон Аполлонович Аблеухов стремительно полетел со ступенек служебной карьеры. Пал он во мнении многих.
Говорили впоследствии, что тому причиною послужил скандал с его сыном: да, на вечер к Цукатовым еще прибыл муж государственной важности; но когда обнаружилось, что с вечера бежал его сын, обнаружились также и все недостатки сенатора, начиная с образа мыслей и кончая – росточком; а когда ранним утром появились сырые газеты и мальчишки-газетчики бегали по улицам с криками «Тайна Красного домино», то сомнения не было никакого.
Аполлон Аполлонович Аблеухов был решительно вычеркнут из кандидатского списка на исключительной важности ответственный пост.
Пресловутая заметка газеты – но вот она: «Чинами сыскной полиции установлено, что смущающие за последние дни толки о появлении на улицах Петербурга неизвестного домино опираются на несомненные факты; след мистификатора найден: подозревается сын высокопоставленного сановника, занимающего административный пост; полицией приняты меры».
С этого дня начался и закат сенатора Аблеухова.
Аполлон Аполлонович Аблеухов родился в тысяча восемьсот тридцать седьмом году (в год смерти Пушкина); детство его протекало в Ниже – родской губернии, в старой барской усадьбе; в тысяча восемьсот пятьдесят восьмом году он окончил курс в Училище Правоведения; в тысяча восемьсот семидесятом году был назначен профессором Санкт-Петербургского Университета по кафедре Ф… П…; в тысяча восемьсот восемьдесят пятом году состоял вице-директором, а в тысяча восемьсот девяностом – директором N. N. департамента; в следующем году был высочайшим указом он назначен в Правительствующий Сенат; в девятисотом году он стал во главе Учреждения.
Вот его curriculum vitae.
Угольные лепешки
Вот уже зеленоватое просветление утра, а Семеныч – не сомкнул за ночь глаз! Все-то он в каморке кряхтел, переворачивался, возился; нападала зевота, чесотка и – прости прегрешения наши, о, Господи! – чох; при всем эдаком – тому подобные размышления:
– «Анна Петровна-то, матушка, прибыла из Гишпании – пожаловала…»
Сам себе Семеныч про это:
– «Да-с… Отворяю я, етта, дверь… Вижу, так себе, посторонняя барыня… Незнакомая и в заграничном наряде… А она, етта, мне…»
– «Аааа…».
– «Етта мне…»
– «Прости прегрешения наши, о, Господи».
И валила зевота.
Уже и тетюринская проговорила труба (тетюринской фабрики); уже и свистнули пароходики; электричество на мосту: фук – и нет его… Сбросивши с себя одеяло, приподнялся Семеныч: большим пальцем ноги колупнул половик.
Расшушукался.
– «Я ему: ваше, мол, высокопревосходительство, барин – так мол и так… А они, етта, – да…»
– «Никакого внимания…»
– «И барчонок-то ефтат: от полу не видать… И – прости прегрешения наши, о, Господи! – белогубый щенок и сопляк».
– «Не баре, а просто хамлеты…»
Так сам себе под нос Семеныч; и – опять головой под подушку; часы протекали медлительно; розоватенькие облачка, зрея солнечным блеском, высоко побежали над зреющей блеском Невой… А одеялом нагретый Семеныч – все-то он бормотал, все-то он тосковал:
– «Не баре, а… химики…»
И как бацнула там, как там грохнула коридорная дверь: не воры ли?.. Авгиева-купца обокрали, Агниева-купца обокрали.
Приходили резать и молдаванина Хаху.
Сбросивши с себя одеяло, выставил он испариной покрытую голову; наскоро вставив ноги в кальсоны, он с суетливо обиженным видом и с жующею челюстью выпрыгнул из разогретой постели и босыми ногами прошлепал в полное тайны пространство: в чернеющий коридор.
И – что же?
Щелкнула там задвижка у… ватер-клозета: его высокопревосходительство, Аполлон Аполлонович, барин, с зажженною свечкою оттуда изволил прошествовать, – в спальню.
Синее уж серело в коридоре пространство, и светились прочие комнаты; и искрились хрустали: половина восьмого; пес-бульдожка чесался и лапою цапал ошейник, и мордой оскаленной, тигровой, спину свою доставал.
– «Господи, Господи!»
– «Авгиева-купца обокрали!.. Агниева-купца обокрали!.. Хаху провизора резали!..»
………………………
Бешено просверкали лучи по хрустальному, звонкому, по голубому по небу.
Сбросивши с себя брючки, Аполлон Аполлонович Аблеухов мешковато запутался в малиновых кистях, облекаясь в стеганый, полупротертый халатик мышиного цвета, выставляя из ярко-малиновых отворотов непробритый свой подбородок (впрочем, вчера еще гладкий), весь истыканный иглистой и густой, совершенно белой щетиной, будто за ночь выпавшим инеем, оттеняющим и темные глазные провалы, и провалы под скулами, которые – от себя мы заметим – сильно поувеличились за ночь.