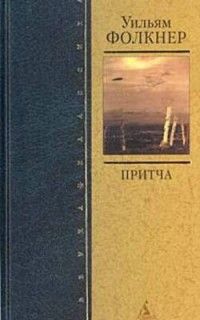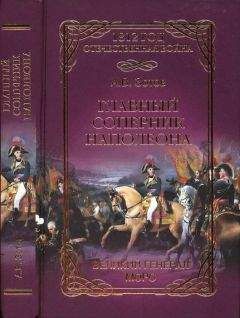— Сектор обстрела? — спросил Взломщик.
— Угу, — сказал незнакомец. — Американцы устроили в сентябре. Там вон, — указал он, — Вьенн-ла-Пуссель. Били по нему. Досталось городку. Теперь уж недалеко.
Но было не так уж близко, однако в конце концов они добрались до места — к неосвещенной ферме с темным двором. Незнакомец остановил лошадь и отдал Взломщику поводья.
— Я схожу за лопатой. Захвачу и какой-нибудь саван. Вернулся он быстро, отдал саван с лопатой сидящим сзади, взобрался на сиденье и взял вожжи; лошадь тронула и сделала решительную попытку свернуть во двор, но незнакомец резко повернул ее. Показались ворота в живой изгороди; Мораш спрыгнул и распахнул их.
— Не закрывай, — сказал незнакомец. — Закроем, когда поедем обратно.
Мораш вскочил в телегу, когда она проезжала мимо; теперь они были в поле, на мягкой пахоте, лошадь по-прежнему сама безошибочно находила дорогу, уже не прямую, а вьющуюся, иногда чуть ли не поворачивающую назад, хотя Взломщик не мог разглядеть ничего.
— Невзорвавшиеся снаряды, — объяснил незнакомец. — Пока их не извлекли, обнесены флажками. При пахоте их приходится огибать. Как говорили женщины и старики, жившие тогда здесь, война после майского перерыва началась вновь на том поле. Фамилия его хозяев Дюмон. Муж умер прошлым летом; видно, две войны с недельным перерывом у него на поле доконали беднягу. Вдова теперь сама трудится там с работником. Могла бы и без него обойтись; плуг она ведет не хуже, чем он. У нее есть сестра. Слабоумная. Та стряпает.
Он встал на ноги и вгляделся в темноту; еле различимый на фоне неба, он постучал себя по голове. Вдруг он резко свернул лошадь в сторону и вскоре остановил ее.
— Вот и приехали, — сказал он. — Метрах в пятидесяти, на том валу, что разделяет наши поля, рос крупнейший во Франции бук. Мой дед говорил, что даже при его деде он был уже большим деревом. Наверно, тоже погиб в тот день. Ладно. Давай доставать покойника. Вам тоже незачем терять здесь время.
Он указал место, где под лемехом плуга обнаружил труп и снова засыпал его землей. Слой земли был тонким, они ничего не видели и почти не ощущали запаха, потому что успели к нему притерпеться, или, может быть, потому, что труп был один. Вскоре длинный, сплошной ворох легких костей и тряпья был вынут, уложен в саван, а потом в телегу; лошадь, решив, что в этот раз она, несомненно, попадет в конюшню, даже пыталась снова бежать легкой рысцой по мягкой пахоте. Мораш закрыл ворота в живой изгороди и был вынужден догонять телегу бегом, потому что лошадь теперь неслась тяжелым галопом, не обращая внимания на поводья, и снова попыталась свернуть во двор, однако незнакомец, на сей раз взявшись за кнут, заставил ее повернуть на дорогу в Сен-Мишель.
Прошло чуть больше четырех часов, но, возможно, это было и к лучшему. В городе все уже спали, и бистро, откуда начинался их путь, было лишь бесформенной тенью, от него отделилась толпа теней и рассыпалась на девять отдельных фигур, окруживших телегу, телега не останавливалась, а медленно ехала туда, где обтянутый черным крепом вагон сливался с темнотой. Но он был на месте; оставшиеся в городе даже снова вынули гвозди, нужно было только снять крышку, втащить саван с трупом в окно, положить в гроб, закрыть его и воткнуть гвозди на место.
— Забейте их, — сказал Взломщик. — Теперь стучать можно. Где коньяк?
— Все в порядке, — послышалось в ответ.
— Сколько бутылок распили?
— Одну.
— Считая с которой?
— Иди сосчитай, если не веришь, — ответил тот же голос.
— Отлично, — сказал Взломщик. — Вылезайте оттуда и закройте окно.
Они спрыгнули на землю. Незнакомец не слезал с телеги, и теперь уж, несомненно, лошадь должна была вернуться домой. Но они не ждали отъезда. Все, как один, повернулись, уже на бегу, у двери образовалась легкая давка и толкотня, но в конце концов они скрылись в своем темном катафалке, словно в материнской утробе. Теперь они были в безопасности. У них был труп, было достаточно выпивки и до утра можно было ни о чем не заботиться. Их, разумеется, ждали завтрашний день и Париж, но об этом они предоставили заботиться Богу.
Мария, младшая сестра, уложила в передник собранные яйца и теперь словно бы плыла через двор к дому на мягком, нежном облаке белых гусей. Они окружали, обступали ее будто с каким-то трогательным и ревностным обожанием; два гуся шествовали рядом с ней, прильнув длинными вытянутыми шеями к ее бедрам, запрокинув головы и приоткрыв твердые желтые клювы, будто рты, их застывшие, неподвижные глаза были подернуты пленкой, словно в каком-то упоении: гуси дошли с ней до самого крыльца и, когда она поднялась, открыла дверь, быстро юркнула туда и закрыла ее снова, скучились, сгрудились вокруг него, на ступеньках и у самой двери, они жались к ее непроницаемым доскам, вытянув шеи и запрокинув головы, будто на грани обморока, издавая своими грубыми, хриплыми, немелодичными голосами негромкие, трогательные крики страдания, утраты и невыносимого горя.
Дверь вела в кухню, уже насыщенную запахом обеденного супа. Мария даже не остановилась; выложив из передника яйца, она торопливо приподняла крышку кипящей на плите кастрюли, затем торопливо собрала на стол бутылку вина, стакан, тарелку, буханку хлеба, салфетку и ложку, потом прошла через весь дом и вышла в переднюю дверь к тропинке и лежащему за ней полю и сразу же увидела их — лошадь с бороной, человека, ведущего ее, работника, нанятого четыре года назад после смерти мужа ее сестры, и сестру, шествующую по земле, словно исполняя обряд, она запускала руку в свисающую с плеча сумку, а потом совершала ею широкий взмах, второе по древности из незапамятных телодвижений или деяний человека; Мария побежала к ней, петляя меж старых воронок, огражденных красными флажками и поросших буйной, унылой над невзорвавшимися снарядами травой, уже на бегу зовя ее, крича своим ясным, безмятежным и звучным голосом:
— Сестра! Молодой англичанин приехал за медалью. Их двое, они идут сюда по тропинке.
— С ним друг? — спросила Марфа.
— Нет, не друг, — сказала Мария. — Этот ищет дерево.
— Дерево?
— Да, сестра. Ты не видишь его?
И, уже стоя на тропинке, они увидели обоих — несомненно, это были люди, но еще издали было видно, что один из них движется не совсем по-людски, а по мере приближения — совсем не по-людски в сравнении с широкой, неуклюжей поступью второго; он шел, Неторопливо пригибаясь и выпрямляясь, словно какое-то громадное насекомое, идущее вертикально, и, казалось, совсем не продвигался вперед, потом Мария сказала: «Он на костылях»; единственная его нога двигалась размеренно, неустанно, даже неукротимо, шаги ее чередовались с ритмичными выпадами костылей; упорно, даже неукротимо, и он явно приближался к ним; вскоре они увидели, что у него нет не только ноги, что рука с той же стороны отнята почти по локоть и (уже совсем вблизи) что это вообще полутруп, потому что видимая половина его тела представляла собой ужасный желтовато-коричневый шрам; начинался он у измятой фетровой шляпы и охватывал половину лица, идя через переносицу, рот и подбородок к воротничку рубашки. Но это впечатление сразу же исчезло, потому что голос его был сильным и нежалостливым, французский язык, на котором он к ним обратился, был беглым и правильным, и неприятен был лишь его спутник — высокий, тощий, живой труп, отнюдь не полу, похожий на бродягу, но с противной, наглой, мерзкой физиономией под грязной шляпой, из-за ленты которой ухарски торчало длинное перо, доводившее его рост до восьми футов.
— Мадам Дюмон? — спросил первый.
— Да, — ответила Мария с открытой, нежной, нежалостливой улыбкой.
Человек на костылях повернулся к своему спутнику.
— Все в порядке, — сказал он по-французски. — Это они. Говори, что там у тебя.
Но Мария, не дав тому сказать ни слова, обратилась к человеку с костылями:
— Мы ждали вас. Суп готов, а вы, должно быть, проголодались, идя от станции.
Потом она обратилась ко второму, но не по-французски, а на старом балканском языке своего детства:
— И вы. Еще какое-то время вы будете нуждаться в пище.
— Что? — неожиданно и резко сказала ее сестра и обратилась к человеку с пером в шляпе на том же языке: — Вы зеттлани?
— Что? — громко и грубо сказал по-французски человек с пером в шляпе. Я говорю на французском языке. И тоже не откажусь от супа. Я могу заплатить за него. Ясно? — спросил он, сунув руку в карман. — Смотри.
— Мы знаем, что у вас есть деньги, — сказала по-французски Мария. Проходите в дом.
И уже на кухне они полностью разглядели первого: желтовато-коричневый шрам от ожога не кончался у шляпы, а охватывал той же страшной омертвелостью половину черепа; на той стороне не было ни глаза, ни уха, уголок рта тоже был омертвелым, словно это было лицо не того самого человека, который только что говорил и вскоре будет есть и пить; его грязная рубашка была схвачена у горла затертой, выцветшей полоской материи; они не знали, что это английский полковой галстук; слева на груди грязного, пыльного смокинга висели две медали; одна штанина обтрепанных грязных твидовых брюк была подогнута и закреплена у бедра кусочком проволоки; англичанин постоял посреди кухни, опираясь на костыли и оглядывая помещение пристальным, спокойным, нежалостливым взглядом, а его спутник, с опустошенным, наглым, беспокойным лицом, стоял позади, не снимая шляпы, ее перо почти касалось потолка, словно он был подвешен к нему.