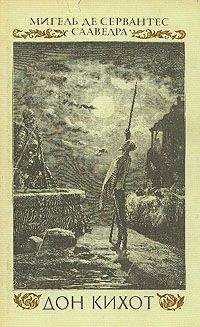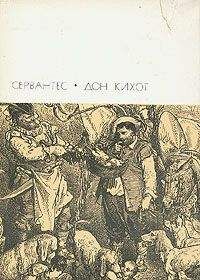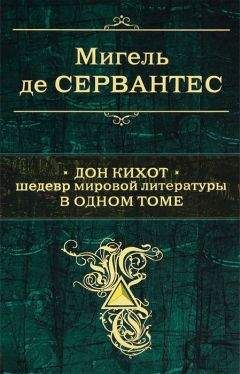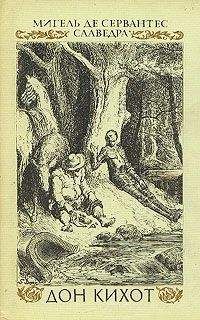Среди взятых в плен христиан – защитников форта был некто по имени дон Педро де Агилар, родом откуда-то из Андалусии, – в форте он был знаменщиком, и все почитали его за изрядного воина и за человека редкого ума, а кроме того, у него были исключительные способности к стихотворству. Заговорил я о нем потому, что волею судеб он стал рабом моего хозяина, и мы с ним оказались на одной галере и на одной скамье. И еще до того, как мы покинули эту гавань, помянутый кавальеро сочинил нечто вроде двух эпитафий в форме сонета, одну – посвященную Голете, а другую – форту. Откровенно говоря, мне бы хотелось вам их прочесть, ибо я знаю их наизусть и полагаю, что они вам не наскучат, а скорее доставят удовольствие.
При имени дона Педро де Агилара дон Фернандо взглянул на своих спутников, и все трое улыбнулись друг другу. Пленник совсем уже было собрался прочитать сонеты, но один из спутников дона Фернандо прервал его:
– Прежде чем продолжать, скажите, пожалуйста, ваша милость, что сталось с доном Педро де Агиларом, о котором вы упомянули?
– Вот что я о нем знаю, – отвечал пленник: – Два года он пробыл в Константинополе, а затем, переодевшись арнаутом, при посредстве греческого лазутчика бежал, но только не знаю наверное, на свободе ли он, хотя думаю, что на свободе, – год спустя я встретил грека в Константинополе, однако же мне не удалось его расспросить, чем кончился их побег.
– Он на свободе, – сказал кавальеро. – Ведь этот дон Педро – мой брат, и теперь он с женой и тремя детьми в добром здравии и в довольстве проживает в наших краях.
– Благодарю тебя, боже, за великую твою милость! – воскликнул пленник. – По мне, нет на свете большей радости, нежели радость вновь обретенной свободы.
– И вот еще что, – продолжал кавальеро, – я знаю сонеты моего брата.
– Так прочтите их вы, ваша милость, – сказал пленник, – уж верно, у вас это выйдет лучше, чем у меня.
– Охотно, – сказал кавальеро. – Вот сонет, посвященный Голете:
в коей следует продолжение истории пленника
Вам, кто за веру отдал жизнь свою;
Чьи души, сбросив свой покров телесный,
Взнеслись на крыльях в высший круг небесный
И днесь блаженство обрели в раю;
Вам, кто в далеком и чужом краю
Служил отчизне преданно и честно;
Кто море и пески страны окрестной
Окрасил в кровь – и вражью, и свою;
Вам не отвага – силы изменили,
И ваше поражение в борьбе
Победою считаем мы по праву.
Здесь, меж руин, вы тлеете в могиле.
Стяжав ценою гибели себе
Бессмертье в мире том, а в этом славу.
– Да, это тот самый сонет, – заметил пленник.
– А вот, если память мне не изменяет, о форте, – сказал кавальеро.
Здесь, на песке бесплодном, где во прах
Низринул башни вихрь огня и стали,
Три тысячи бойцов геройски пали,
И души их теперь на небесах.
Не ведали они, что значит страх,
И верх над ними взял бы враг едва ли,
Когда б они рубиться не устали
И не иссякла сила в их руках.
Немало бед, в горниле войн пылая,
И встарь и ныне видел этот край,
Который кровь обильно оросила,
Но никогда земля его скупая
Столь смелых душ не воссылала в рай
И тел столь закаленных не носила.
Все одобрили эти сонеты, и пленник, порадовавшись вестям о своем товарище, продолжал рассказ:
– Итак, Голета и форт пали, и турки отдали приказ сровнять Голету с землею (форт находился в таком состоянии, что там уже нечего было сносить), и, чтобы ускорить и облегчить работу, с трех сторон подвели под Голету подкоп, но что до сего времени казалось наименее прочным, то как раз и не взлетело на воздух, а именно – старые крепостные стены, все же, что осталось от новых укреплений, воздвигнутых Фратино 221 мгновенно рухнуло. Наконец эскадра с победой и славой возвратилась в Константинополь, а несколько месяцев спустя умер хозяин мой Улудж-Али, по прозванию Улудж-Али-Фарташ, что значит по-турецки шелудивый вероотступник, ибо таковым он был на самом деле, турки же имеют обыкновение давать прозвища по какому-либо недостатку или же достоинству – и это потому, что у них существует всего лишь четыре фамилии, ведущие свое происхождение от Дома Оттоманов, тогда как прочим, повторяю, имена и фамилии даются по их телесным недостаткам или же душевным качествам. Так вот этот самый Шелудивый, будучи рабом султана, целых четырнадцать лет просидел за веслами, а когда ему было уже года тридцать четыре, он, затаив злобу на одного турка, который как-то раз на галере ударил его по лицу, отрекся от своей веры, дабы иметь возможность отомстить обидчику. Достоинства же его были столь велики, что он, и не прибегая к окольным путям, которыми приближенные султана обыкновенно пользуются, стал королем алжирским, а затем генерал-адмиралом, то есть занял третью по степени важности должность во всей империи. Родом он был из Калабрии, сердце имел доброе и со своими рабами обходился по-человечески, а рабов у него было три тысячи, и после его смерти, согласно оставленному им завещанию, их распределили между султаном, который почитается наследником любого из умерших своих подданных и получает равную с сыновьями покойного долю, и вероотступниками, состоявшими у Улудж-Али на службе. Я же достался одному вероотступнику родом из Венеции, – он был юнгой на корабле, когда его захватил в плен Улудж-Али, и вскоре он уже вошел к Улудж-Али в доверие, сделался одним из любимых его советников, а в конце концов превратился в самого жестокого вероотступника, которого когда-либо видел свет. Звали его Гасан Ага 222, и стал он весьма богат, и стал он королем Алжира. С ним я и отбыл туда из Константинополя, отбыл не без удовольствия, ибо Алжир совсем близко от Испании, – впрочем, я никому не собирался писать о своей недоле, я только надеялся, что в Алжире судьба будет ко мне благосклоннее, нежели в Константинополе, где я тысячу раз пытался бежать – и все неудачно. Так вот, в Алжире я рассчитывал найти иные способы осуществления того, о чем я так мечтал, ибо надежда обрести свободу никогда не оставляла меня, и если то, что я замышлял, обдумывал и приводил в исполнение, успеха не имело, я не падал духом и тотчас цеплялся и хватался за какую-нибудь другую надежду, пусть слабую и непрочную. Это меня поддерживало в алжирском остроге, или, как его называют турки, банья, куда сажают пленных христиан – как рабов короля и некоторых частных лиц, так и рабов алмахзана, то есть рабов городского совета, которых посылают на работы по благоустройству города и на всякие другие работы и которым особенно трудно выйти на свободу, ибо они принадлежат общине, но не отдельным лицам, так что если б даже они и достали себе выкуп, то все равно им не с кем было бы начать переговоры. В этих тюрьмах, как я уже сказал, содержатся рабы и некоторых частных лиц из местных жителей, преимущественно такие, за которых надеются получить выкуп, ибо здесь их работать не приневоливают, а глядят за ними в оба до тех пор, пока не придет выкуп. Так же точно и рабов короля, за которых ждут выкуп, посылают на работы вместе со всеми, только если выкуп запаздывает; в сем случае для того, чтобы они более решительно добивались выкупа, их принуждают работать и посылают вместе с прочими рубить лес, а это труд нелегкий.
Я тоже оказался в числе выкупных, ибо когда стало известно, что я капитан, то, сколько я ни уверял, что средства мои весьма скромны и что имущества у меня никакого нет, все же я был отнесен к разряду дворян и выкупных пленников. Меня заковали в цепи – не столько для того, чтобы легче было меня сторожить, сколько в знак того, что я выкупной, и так я жил в этом банья вместе с многими другими дворянами и знатными людьми, которые значились как выкупные и в качестве таковых здесь содержались. И хотя порою, а вернее, почти все время, нас мучили голод и холод, но еще больше нас мучило то, что мы на каждом шагу видели и слышали, как хозяин мой совершает по отношению к христианам невиданные и неслыханные жестокости. Каждый день он кого-нибудь вешал, другого сажал на кол, третьему отрезал уши, – и все по самому ничтожному поводу, а то и вовсе без всякого повода, так что сами турки понимали, что это жестокость ради жестокости и что он человеконенавистник по своей природе. Единственно, с кем он хорошо обходился, это с одним испанским солдатом, неким Сааведра 223, – тот проделывал такие вещи, что турки долго его не забудут, и все для того, чтобы вырваться на свободу, однако ж хозяин мой ни разу сам его не ударил, не приказал избить его и не сказал ему худого слова, а между тем мы боялись, что нашего товарища за самую невинную из его проделок посадят на кол, да он и сам не раз этого опасался. И если б мне позволило время, я бы вам кое-что рассказал о подвигах этого солдата, и рассказ о них показался бы вам гораздо более занимательным и удивления достойным, нежели моя история.