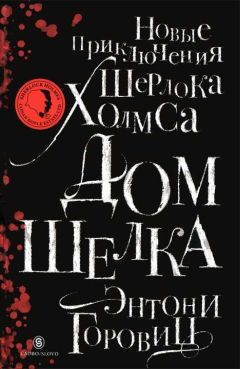— Весьма тонко! — Сенатор перекусил пополам мундштук папиросы и замолчал.
— Тонко? Да ничуть! Простейший урок, преподанный мне жизнью. Но не будем ссориться, Том. Заставить я тебя не могу; подбивать на такое дело не имею права, — я во всем этом недостаточно разбираюсь. Ведь я только глупая женщина. Жаль… ну, да все равно. Я с удовольствием взяла на себя это поручение: во-первых, я пожалела Майбомов, а во-вторых, я было порадовалась за тебя, — мне думалось: «Том последнее время ходит какой-то понурый. Раньше он хоть жаловался, а теперь и жаловаться перестал». Ты несколько раз понес убытки — такие уж времена!.. И надо же, чтобы это было как раз теперь, когда мое положение, с божьей помощью, улучшилось и я чувствую себя счастливой. И тут мне пришло в голову: «Это для него хороший случай: можно одним ударом и убытки покрыть и показать людям, что счастье не вовсе изменило фирме „Иоганн Будденброк“. И если бы ты на это пошел, я бы очень гордилась своим посредничеством. Ты ведь знаешь: моей всегдашней заветной мечтой было послужить чести нашего имени… Ну, да хватит об этом. Нет так нет! Меня одно огорчает: ведь Майбому все равно придется продавать урожай на корню. Он приедет в город и, уж конечно, найдет покупателя… Конечно, найдет… И я уверена, что покупателем окажется Герман Хагенштрем, этот пройдоха…
— Да, уж он вряд ли упустит такой случай, — с горечью согласился сенатор; а г-жа Перманедер трижды подряд воскликнула:
— Вот видишь, вот видишь, вот видишь, Том!
Томас Будденброк вдруг разразился саркастическим смехом и покачал головой.
— Какая чепуха!.. Вот мы с тобой сидим здесь и рассуждаем вполне серьезно — ты по крайней мере, — а о чем? О чем-то совершенно неопределенном и нереальном! Я ведь, насколько мне помнится, даже не спросил, о чем же собственно идет речь, что продает господин фон Майбом… В Пеппенраде я никогда не бывал…
— О, тебе, конечно, пришлось бы туда поехать! — быстро отвечала она. — До Ростока рукой подать, а оттуда два шага до Пеппенраде! Что он продает? Пеппенраде — большое имение… Я знаю наверняка, что они снимают больше тысячи кулей пшеницы… но подробности мне, конечно, не известны. Как там у них с рожью, ячменем, овсом… кулей по пятьсот? Может быть, больше, а может, и меньше, — не знаю. Знаю только, что хлеба стоят великолепные. Что же касается точных цифр, здесь я тебе никаких сведений дать не могу. Я на этот счет совсем дурочка. Разумеется, тебе нужно съездить самому.
Наступило молчанье.
— Ну, хватит, больше об этом ни слова, — отрывисто и твердо проговорил сенатор, схватил со стола свое пенсне, сунул его в жилетный карман, застегнул сюртук, поднялся и быстрыми, уверенными шагами, исключавшими самую мысль о сомнениях и нерешительности, заходил по комнате.
Затем он остановился у стола и, слегка постукивая по нему согнутым указательным пальцем, обратился к сестре:
— Сейчас я расскажу тебе одну историю, Тони, душенька, из которой ты поймешь, почему я так отношусь к этому делу. Я знаю твою слабость к аристократии вообще и к мекленбургской в частности, а потому не сердись за то, что в моем рассказе будет фигурировать один такой аристократ… Ты знаешь, многие из них не очень-то почтительно относятся к нашему брату, коммерсантам, хотя мы им зачастую нужнее, чем они нам. Есть у них эдакое — пожалуй, даже объяснимое — пренебрежение производителя к посреднику, в деловых разговорах проявляющееся достаточно явно. Одним словом, коммерсант для них нечто вроде еврея-старьевщика, которому сбывают обноски по заведомо низкой цене. Вряд ли я обольщаюсь, полагая, что не произвожу на них впечатления низкопробного эксплуататора; среди этих аристократов многие значительно оборотистее меня. Но одного из них мне пришлось-таки предварительно слегка проучить, чтобы потом общаться с ним на равной ноге… Я говорю о владельце Гросс-Погендорфа, с которым мне неоднократно приходилось вести дела, — ты, наверно, слышала о нем. Это некий граф Штрелиц, мужчина весьма феодальных убеждений; четырехугольный монокль в глазу (я всегда удивлялся, как он не порежется), лакированные ботфорты, стек с золотой ручкой… У него была привычка с полуоткрытым ртом и полузакрытыми глазами взирать на меня с высоты своего недосягаемого величия… Мой первый визит к нему оказался весьма примечательным. Предварительно известив о своем приезде, я отправился в Гросс-Погендорф. Лакей проводил меня в кабинет. Граф Штрелиц сидел за письменным столом. Он ответил на мой поклон, чуть-чуть приподнявшись с кресла, дописал последнюю строчку, затем повернулся ко мне и, глядя поверх моей головы, начал деловой разговор. Я стою, прислонившись к столику у дивана, скрестив руки и ноги, и от души забавляюсь. За разговором прошло уже минут пять. По истечении следующих пяти минут я усаживаюсь на стол и сижу, болтая ногой в воздухе. Беседа продолжается. Минут через пятнадцать граф, сделав милостивый жест рукой, как бы вскользь замечает:
— Кстати, не угодно ли вам присесть?
— Как? — удивляюсь я. — Присесть? Да ведь я давно сижу.
— Ты так сказал? Так прямо и сказал?! — вне себя от восторга вскричала г-жа Перманедер. Весь предшествующий разговор сразу вылетел у нее из головы. Забавный анекдот, рассказанный братом, поглотил все ее внимание. — «Я уже давно сижу!» Нет, это бесподобно!..
— Да! И смею тебя уверить, что с того самого момента поведение графа круто изменилось. Он спешил пожать мне руку, как только я появлялся, предупредительно усаживал меня… В конце концов мы стали, можно сказать, друзьями. Но к чему, спрашивается, я тебе все это рассказываю? А к тому, чтобы спросить, как, по-твоему, хватило бы у меня духа, уверенности в себе, сознания своей правоты таким вот образом проучить господина фон Майбома, если бы он, уговариваясь со мной о цене, забыл предложить мне стул?..
Госпожа Перманедер ответила не сразу.
— Хорошо, — сказала она немного погодя и поднялась. — Возможно, что ты и прав, Том. Повторяю, я ни на что подбивать тебя не хочу; тебе виднее, за что браться и от чего отказываться. На этом мы кончим. Лишь бы ты верил, что я пришла к тебе с самыми добрыми намерениями… Ну да хватит! Спокойной ночи, Том… или нет, я еще забегу поцеловать твоего Ганно и поздороваться с нашей милой Идой. А на обратном пути опять загляну к тебе на минуточку.
И г-жа Перманедер вышла из комнаты.
Она поднялась на третий этаж и прошла мимо «балкона» по белой с золотом галерее в переднюю, откуда дверь вела в коридор, где по левую руку помещалась гардеробная сенатора. Г-жа Перманедер нажала ручку другой двери, в конце коридора, и вошла в огромную комнату с окнами, занавешенными сборчатыми шторами из мягкой материи в крупных цветах.
Стены этой комнаты поражали своей голизной. Кроме большой гравюры в черной раме, изображавшей Джакомо Мейербера[108] в окружении персонажей из его опер, над кроватью мамзель Юнгман, да нескольких цветных английских литографий с желтоволосыми бэби в красных платьицах, которые были приколоты булавками к светлым обоям, на них ничего не было.
Ида Юнгман сидела посреди комнаты за большим раздвижным столом и штопала чулочки Ганно. Хотя преданной пруссачке перевалило уже за пятьдесят и седеть она начала очень рано, ее гладко зачесанные волосы и теперь еще не вовсе побелели, а имели какой-то сероватый оттенок, крепко сшитая фигура Иды была так же пряма, как и в двадцать лет, и карие глаза по-прежнему светились неутомимой энергией.
— Добрый вечер, милая Ида, — сказала г-жа Перманедер приглушенным, но веселым голосом, ибо рассказ брата привел ее в наилучшее расположение духа. — Как дела, старушенция?
— Ну-ну, Тони, так уж и старушенция!.. Поздненько ты к нам пожаловала.
— Да, я была у брата по делам, не терпящим отлагательства… Жаль только, что ничего не вышло… Спит? — спросила она, кивнув в сторону кроватки с зеленым пологом, стоявшей у левой, узкой, стены, изголовьем к двери, ведущей в спальню сенатора Будденброка и его супруги.
— Ш-шш, — прошептала Ида, — не разбуди его.
Госпожа Перманедер на цыпочках приблизилась к кроватке, осторожно раздвинула полог и, склонившись, взглянула в лицо спящего племянника.
Маленький Иоганн Будденброк лежал на спине, но личико его, обрамленное длинными русыми волосами, было обращено в сторону комнаты. Он чуть слышно посапывал. Одна его рука, еле видная из-под длинного рукава ночной рубашки, лежала на груди, другая была вытянута на стеганом одеяле; согнутые пальцы мальчика иногда вдруг тихонько вздрагивали, полураскрытые губы слегка шевелились, словно силясь что-то произнести. Какая-то тень страдания время от времени набегала на маленькое личико: сначала чуть-чуть вздрагивал подбородок, потом трепет передавался губам, раздувались тонко очерченные ноздри, приходили в движение мускулы на узком лбу… Длинные опущенные ресницы не могли скрыть голубоватых теней под глазами.