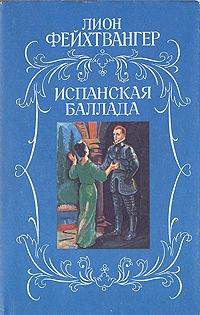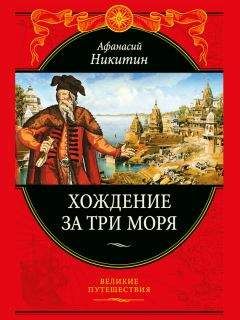Альфонсо знал — это правда, но он заставил себя не верить. Он мог понять донью Леонор, но только умом. Все в нем восставало против нее. Он не хотел её любви; любовь злодейки была ему ненавистна.
Он отвернулся, бросился вон из комнаты.
Альфонсо был смертельно утомлен разговором, рана болела сильней, чем раньше. Он позволил вымыть себя, перевязать рану, уложить в постель. Он спал долго, глубоко, без сновидений.
Затем поехал в Галиану.
Он ехал по узким, крутым улицам вниз, к Тахо, один, без свиты. Жители узнавали его, сторонились, испуганно смотрели в худое, окаменевшее лицо, обнажали головы и низко кланялись, многие падали на колени. Он не видел, не слышал, ехал дальше, медленно, уставившись в землю; машинально, не глядя, отвечал на поклоны.
Он подъехал к белым стенам. Было очень знойно, над Галианой стояло тяжелое, дрожащее на солнце марево, все было тихо, как заколдовано.
Садовник Белардо осторожно приблизился к королю. Робко поцеловал руку.
— Я очень несчастен, государь, — сказал он. — Я не мог заступиться за госпожу. Их было очень много, верно, больше двух тысяч, и привел их знатный рыцарь, а у меня была только священная дедовская алебарда. Что мог я сделать против такой толпы? Они кричали: «Так хочет бог!» — и тогда свершилось. Но больше они ничего не попортили. Все в порядке, государь, и в доме и в саду.
Альфонсо спросил:
— Вы похоронили её здесь, в Галиане? Сведи меня к могиле.
Могила ничем не была отмечена. Голое место со вскопанным дерном возле цистерн рабби Ханана.
— Мы не знали, как быть, — оправдывался Белардо. — Ведь наша госпожа донья Ракель была некрещеная, я не посмел поставить крест.
Король махнул ему рукой, чтоб он ушел.
А сам тяжело опустился на землю, весь во власти жаркого, душного, мутного марева. Дерн был положен кое-как, могила казалась заброшенной, он бы и собаку так не похоронил.
Альфонсо старался вспомнить, как гулял здесь с доньей Ракель, как они голые сидели на берегу пруда, старался вызвать в памяти её лицо, походку, голос, тело. Но вспоминал только отдельные черты; она же. Ракель, оставалась далекой, неуловимой, каким-то смутно мерцающим видением. Если её дух где-нибудь бродит, то бродит именно здесь, но он не умеет его вызвать, верно, духи появляются, только когда сами хотят. А может быть, Бертран прав: женщина волнует кровь мужчины, не его душу.
Здесь, под ним, лежит та, что давала ему безбрежное счастье и страстное волнение, а что она теперь? Тлен и пища червей. Но странно, это оставляло его равнодушным. Что искал он здесь, на этой жалкой, неубранной могиле? Он ни в чем перед ними обоими, перед теми, что лежат в ней, не виноват. Они виноваты пред ним. Виноваты за сына. Теперь он никогда не узнает, что сталось с его Санчо. Все равно как если бы мальчик был зарыт вместе с ними, как если бы зарыто было и тлело в земле его, Альфонсо, будущее. Не надо было ему приходить сюда. Во рту у него был плохой вкус, губы пересохли.
Он с трудом перебрался в тень ближайшего дерева. Растянулся под ним. Он лежал там, закрыв глаза, солнечные блики играли на его лице. И опять он старался представить себе Ракель. Но опять он видел только покровы, сама она оставалась смутной. Он видел её в длинном одеянии, похожем на рубашку, такой, как она ждала его у себя в опочивальне. Видел её в том зеленом платье, в котором она предстала перед ним в первый раз в Бургосе, когда насмеялась над замком его предков. Да, в тот раз, когда она заставила его построить ей Галиану, она прибегла к колдовству и черной магии, хотя сама и не была при этом. И сейчас еще она заманивает его сюда, в Галиану, а его ждут ратные и государственные дела.
Правда, у него есть одно дело, выполнить которое он может только здесь: он должен передать Иегуде слова сына. Он наморщил лоб, стараясь припомнить, что же такое сказал перед смертью Аласар. Он отчетливо слышал: «Скажи отцу…» но что он должен был сказать, Альфонсо так и не мог припомнить.
Он заснул. Вокруг все было в дымке, все расплывалось, ничего нельзя было удержать. И вдруг перед ним появилась Ракель. Она вышла из дымки совсем как живая — это её матово-смуглое лицо, её серо-голубые, цвета голубиного крыла глаза — и стала перед ним. Совсем так же она смотрела, молча, но очень красноречиво, когда не хотела его, а он взял её силой, так смотрела, когда он кричал на нее, что она украла у него сына, и молчание её было громче всяких укоров.
Он лежал с закрытыми глазами. Он знал, это эспехисмо — наваждение, горячечный бред; он знал, Ракель умерла. Но в мертвой Ракели было больше жаркой жизни, чем в живой. И пока она смотрела на него, не сводя глаз, ему вдруг стало ясно: душой он всегда понимал её немое красноречие, он только нарочно ожесточал себя, замыкался и не хотел понимать её настойчивых слов, её правды.
Теперь он открыл свою душу для её правды. Теперь он понял то, что Ракель тщетно старалась ему объяснить: он понял, что такое долг, что такое вина. У него в руках была огромная власть, и он злоупотребил ею; он, как мальчишка, безбожно, беспечно ею играл. Он превратил свое вино в уксус.
Образ Ракели затуманился.
— Не уходи, не уходи еще! — молил он, но удержать её он не мог, видение развеялось.
Альфонсо был обессилен и вдруг почувствовал голод. Он с трудом поднялся, пошел в дом. Приказал принести поесть. Он сидел за столом, за которым часто завтракал с нею, сидел и ел. Машинально, жадно, как волк. Не думал ни о чем, кроме еды.
Силы вернулись к нему. Он встал. Велел позвать кормилицу Саад; он хотел, чтобы она показала ему кое-какие вещи, оставшиеся после Ракели. Наступило смущенное молчание, потом ему наконец сказали, что Саад убита. Он вздохнул. Захотел узнать подробности.
— Она ужасно кричала, — сказал Белардо. — А наша госпожа донья Ракель не испугалась. Стояла спокойно, как настоящая знатная дама.
Альфонсо обошел дом. Остановился перед тем изречением, написанным буквами древнеарабского алфавита, которые он не умел прочитать и Ракель перевела ему: «Унция мира больше стоит, чем тонна победы». Пошел дальше. Он открывал шкафы, лари. Касался платьев. Вот в этом светлом платье она была в тот раз, когда они играли в шахматы, а вот эта совсем нежная ткань, которая, кажется, вот-вот разорвется от прикосновения его пальцев, облекала её в тот раз, когда вокруг неё прыгали собаки. Из ларя повеяло ароматом её платьев, её ароматом. Он захлопнул крышку. Нет, он не Ланселот.
Он нашел её письма к нему, написанные, но не отправленные: «Ты рискуешь жизнью ради безумств, потому что так должен поступать рыцарь, это безрассудно и увлекательно, и за это я люблю тебя». Нашел рисунки, сделанные Вениамином. Он внимательно рассматривал их, заметил черты, которых не видел в живой Ракели. И все же Вениамин видел не всю Ракель, подлинную Ракель видел только он, Альфонсо, и только теперь, когда её уже нет на земле.
Но она не ушла из мира. В нем, в Альфонсо, продолжало жить то полное знание, которое сейчас открыл ему её немой лик. Слова дона Родриго сказали ему, что такое вина и раскаяние, но не дошли до сердца. И его внутренний голос тоже только сказал. Лишь её немой лик врезал ему в сердце, что значат слова: долг, вина, раскаяние.
Он собрался с силами. Прочел молитву, кощунственную молитву. Он молился умершей, прося её являться ему в решительные минуты, дабы её молчание говорило ему, что делать и чего не делать.
Гутьере де Кастро стоял перед королем, широко расставив ноги, опершись на рукоять меча, в традиционной позе.
— Что тебе угодно, государь? — спросил он своим скрипучим голосом.
Альфонсо смотрел в его широкое, грубое лицо. Де Кастро спокойно выдерживал его взгляд. Он не боялся, это было ясно. Ярость короля улетучилась, он сам не понимал, почему с таким угрюмым сладострастием мечтал увидеть, как будет болтаться на виселице де Кастро. Он сказал:
— На тебя было возложено охранять население моей столицы Толедо. Почему ты этого не сделал?
Де Кастро ответил с холодной дерзостью:
— Народ был возбужден из-за проигранной тобой битвы, дон Альфонсо, его обуяла жажда разрушения, жажда крови. Они хотели убить виновных, а виновными они считали очень многих. Но пострадали только очень немногие, не будет и ста человек. Я мог с чистой совестью вернуть перчатку королеве, и я уверен, что угодил ей и заслужил её благодарность. Дон Альфонсо сказал:
— Ты отправился в Галиану вместе с толпой черни и убил моего эскривано и мать моего сына.
Он говорил твердо и ясно и вместе с тем очень спокойно. Де Кастро ответил:
— Народ требовал наказания предателя. Того же требовала и церковь. Мой долг был защитить невинных. А он был виновен.
Король ждал, что де Кастро сошлется теперь на хитрое и кровавое указание королевы и переложит на неё всю вину. Де Кастро этого не сделал. Мало того, он продолжал:
— Я тебе открыто скажу: я бы его уничтожил, даже если бы он не был предателем. Я — Гутьере де Кастро, и уже много лет, как я дал слово себе и всему испанскому рыцарству наказать обрезанного пса, запоганившего мой кастильо.