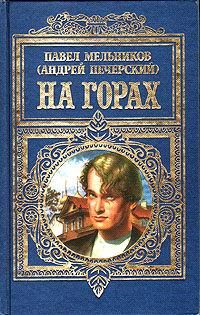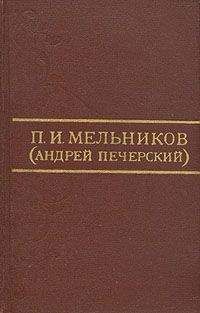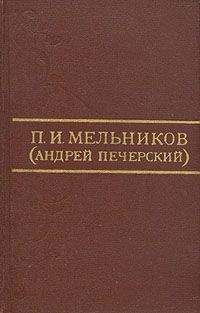– Обидно ведь, батька… До кого не доведись, всяк оскорбится, – продолжала брюзжать Татьяна Андревна. – Словно родного привечали, а он, видишь ли, как заплатил. На речи только, видно, мягок да тих, а на сердце злобен да лих… Лукавый человек!.. Никто ж ведь его силком к себе не тянул, никто ничем не заманивал; ну, не любо, не знайся, не хочешь, не водись, а этак, как он поступил, на что это похоже?
– Дела у него, слышь, спешные, – заметил Меркулов. – Митенька сказывал ведь, как он торопился. Минуты, слышь, свободной у него не было.
– Захотел бы, так не минуту сыскал бы, а час и другой… – молвила Татьяна Андревна. – Нет, ты за него не заступайся. Одно ему от нас всех: «Забудь наше добро, да не делай нам худа». И за то спасибо скажем. Ну, будет! – толя воркотней расходившееся сердце, промолвила Татьяна Андревна. – Перестанем про него поминать… Господь с ним!.. Был у нас Петр Степаныч да сплыл, значит, и делу аминь… Вот и все, вот и последнее мое слово.
От Дорониных вести про Петра Степаныча дошли и до Марка Данилыча. Он только головой покачал, а потом на другой аль на третий день – как-то к слову пришлось, рассказал обо всем Дарье Сергевне. Когда говорил он, Дуня в смежной комнате сидела, а дверь была не притворена. От слова до слова слышала она, что отец рассказывал.
Быстро встала она со стула, нетвердым шагом перешла на другую сторону комнаты, оперлась рукой на стол и стала как вкопанная. Ни кровинки в лице, но ни слез, ни вздохов, ни малейшего движенья, только сдвинула брови да устремила неподвижный взор на свою руку. Через полчаса Аграфена Петровна пришла… Дуня сказала ей про все, что узнала, но говорила так равнодушно, так безучастно, что Аграфена Петровна только подивилась… Затем больше ни слова о Самоквасове. По-видимому, Дуня стала даже веселей прежнего, и Марко Данилыч тому радовался.
Домой собралась Аграфена Петровна. Накануне отъезда долго сидела она с Дуней, но сколько раз ни заводила речь о том, что теперь у нее на сердце, она ни одним словом не отозвалась… Сначала не отвечала ничего, потом сказала, что все, что случилось, было одной глупостью, и она давным-давно и думать перестала о Самоквасове, и теперь надивиться не может, как это она могла так много об нем думать. «Ну, – подумала Аграфена Петровна, – теперь ничего. Все пройдет, все минет, она успокоится и забудет его».
Тяжело было Петру Степанычу на ярманочном многолюдстве. Не вытерпел, ни с кем не видевшись, дня через два он поехал в Казань.
Только что отвалил пароход от нижегородской пристани, увидал Петр Степаныч развеселого ухарского парня, маленько подгулявшего на расставанье с ярманкой. В красной кумачовой рубахе, в черных плисовых штанах и в поярковой шляпе набекрень стоит он середь палубы. Выступив вперед правой ногой и задорно всех озирая, залихватски наяривает на гармонике, то присвистывая, то взвизгивая, то подпевая:
Уж и быть ли, не быть ли беде?
Уж расти ль в огороде лебеде?..
«Быть беде!..» – вспало на ум у Петра Степаныча…
Когда Дуня от Дарьи Сергевны узнала об отъезде Петра Степаныча за Волгу, сердце у ней так и упало. В тоске и кручине после того целые дни она проводила. Ни отцовской ласки, ни заботливости Дарьи Сергевны будто не замечала, даже говорила с ними неохотно. Только и речей было у ней что с Аграфеной Петровной, да и с той не по-прежнему она разговаривала, зато тихого, немого плача было довольно. Как ни уговаривала ее Аграфена Петровна, что убиваться тут не из чего, что мало ль какие могли у него дела случиться, мало ль зачем вдруг ехать ему понадобилось, Дуня речам ее не внимала, а все больше и больше тосковала и плакала. Заметив перемену в дочери, Марко Данилыч, сколько ее ни расспрашивал, ничего не мог добиться, советовался он и с Дарьей Сергевной, и с Аграфеной Петровной, и они ничего не могли ему присоветовать. Старался развлечь Дунины думы забавами, гостей сзывал, в театр ее возил, ничто не помогло, ничто не могло рассеять тайной ее кручины… Исстрадался весь Марко Данилыч, замечая, что Дуня с каждым днем ровно воск тает. Приходило ему в голову, не пришла ли пора ее, не нашла ли она по душе человека, и подумал при этом на Петра Степаныча. Не раз и не два заговаривал он об этом с дочерью… но, опричь дочерниных слез, ничего не мог добиться.
Аграфена Петровна говорила Дуне, что поездка Петра Степаныча не долгая, что, должно быть, какие-нибудь дела с матерями у него не покончены… Может быть, дела денежные, и вот теперь, прослышав о близком скитов разоренье, поехал он туда, чтобы вовремя наградить обители деньгами. Равнодушно слушала все это Дуня. Теперь ей было все равно – в скиты ли уехал Петр Степаныч, в Казань ли, в другое ли место; то ей было невыносимо, то было горько, что уехал он, не сказавшись, ни с кем не простясь. Когда же Татьяна Андревна передала Аграфене Петровне вести, принесенные Веденеевым, и помянула про Фленушку, та виду не подала и ни словечка о том Дуне не молвила. Зато говорливая мать Таисея невпопад разболталась при Дунюшке. Сбираясь домой, зашла она к Марку Данилычу еще разок покланяться, не оставил бы их обитель милостями при грозивших бедах и напастях. Тут она разговорилась о комаровских вестях, привезенных накануне наперсницей ее, часовенной головщицей Варварушкой. Матери Таисее стало за великую обиду, что Петр Степаныч, пока из дядиных рук глядел, всегда в ее обители приставал, а как только стал оперяться да свой капитал получать, в сиротском дому у иконника Ермилы Матвеича остановился…
– Уж мы ли не угождали ему, мы ли не были рады ему, а теперь ровно плюнул он на нашу святую обитель! – со слезами говорила мать Таисея. – Известно, у других жизнь веселее, а наша обитель не богатая, и пустяшных делов у меня, слава Богу, не водится… Живем скромно, по закону, ну а по иным обителям и житье другое: есть там девицы веселые и податливые, поди теперь с ними ровно сыр в масле катается… А мы терпи да убытки неси. Ведь, бывало, что ни пожалует к нам погостить, меньше двух сотенных никогда не оставит… А все эта баламутница Флена Васильевна, она его от нашей обители отвадила… У ней только и есть на уме, чтобы каждого молодого паренька взбаламутить да взбудоражить. Промеж их давно замечалось. А Ермилы Матвеича дом возле самой Манефиной обители и прямехонько супротив Фленушкиных окон… Теперь им воля: матушка больным больнешенька, а Фленушка и к винцу возымела пристрастие. Свертит она, скружит она сердечного Петра Степаныча, беспременно споит сердечного.
Зелень у Дуни в глазах заходила, когда улсышала она Таисеины речи. Не то чтобы слово промолвить, бровью не повела, пальчиком не свдинула…Одна осталась – и тут не заплакала. Стала ровно каменная. Сама даже Груня стала ей противна. Одной все быть хотелось, уйти в самое себя. Вечером Марко Данилыч в театр ее повез с Дорониными. Безмолвно исполнила Дуня отцовский приказ, оделась, поехала, но лютой мукой показались ей и сидение в ложе, и сидение за ужином у Никиты Егорова: однако все перенесла, все безропотно вытерпела.
На другой день, а это было как раз в то утро, когда Никита Федорович впервые приехал к невесте, в грустном безмолвье, в сердечной кручине сидела, пригорюнясь, одинокая Дуня. Вдруг слышит – кто-то тревожно кричит в коридоре, кто-то бежит, хлопают двери, поднялась беготня… Не пожар ли, не горит ли гостиница?.. Нет… «Задавили, задавили!» – кричат… И все вдруг стихло.
Снова поднялся беспокойный говор, снова послышались топот бегущих и шум… Вдруг входная дверь распахнулась… Бледная как смерть, с трудом переводя дыханье и держа за руку старшую девочку, в страшном испуге нетвердыми шагами вошла Аграфена Петровна и тяжело опустилась на первый попавшийся стул. Следом за ней вошла высокая, стройная, статная женщина, с ног до головы во всем черном, покрыта была она черною же, но дорогою кашемировою шалью. Сильными, крепкими руками внесла она меньшую дочку Аграфены Петровны – всю в пыли, с растрепанными волосами и в измятом платье… Бережно она поставила ее середь комнаты, погладила по головке и нежно поцеловала. Лицо этой женщины незнакомо было и Дуне, и прибежавшей на шум Дарье Сергевне… Общими силами кое-как успокоили Аграфену Петровну.
Каждый день она перед полуднем хаживала навестить скорбную Дуню и брала с собой обеих маленьких девочек. День был ясный, и она, потихоньку пробираясь в тени по другой стороне улицы, поверсталась с гостиницей, где жили Смолокуровы. По улице взад и вперед тянутся нескончаемые обозы, по сторонам их мчатся кареты, коляски, дрожки, толпится и теснится народ; все шумят, гамят, суетятся, мечутся во все стороны, всюду сумятица и толкотня; у непривычного человека как раз голова кругом пойдет на такой сутолоке. Взяв за руки девочек, Аграфена Петровна стала переходить кипевшую народом улицу и уж дошла было до подъезда гостиницы, как вдруг с шумом, с громом налетела чья-то запряженная парой борзых коней коляска.