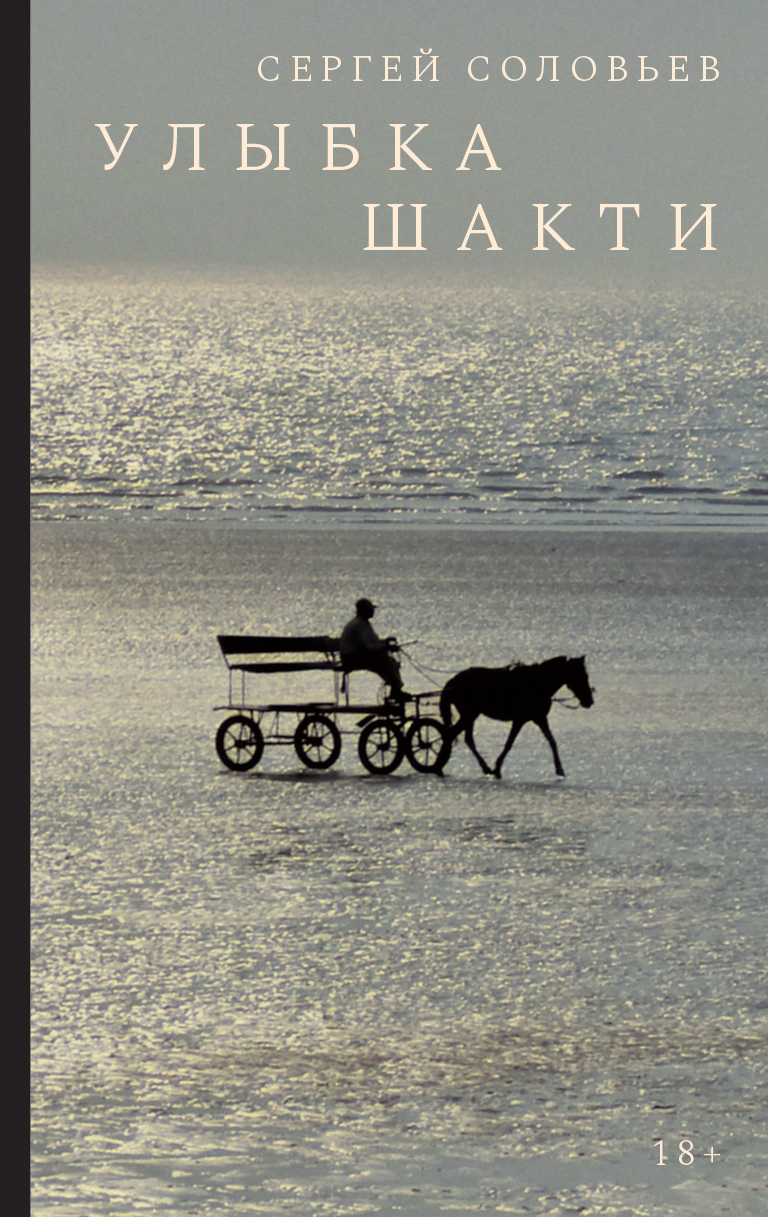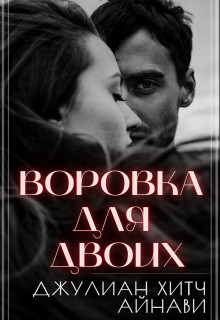на весь лес. А чуть поодаль, когда этот олень накричался и ушел, в наступившей тишине что-то произошло, и с предсмертным хрипом слег кабанчик.
Встали затемно, чтобы успеть на сафари к лесничеству, откуда оно начиналось. Развел огонь, сварил кофе нам, Зубаир спал, договорились, что он останется в лагере. Шли в темноте, взявшись за руки. Уж не знаю, как и что так легко и светло соединило их. Я бы сказал – лес и эта предутренняя тропа. Она бы – другое, наверно.
Возвращались в лагерь счастливые, думая о праздничном обеде, неся покупки… И подоспели – прямо к нашему изгнанию из рая. Еще успели перед тем обойти дворы в той деревеньке у входа в лес и договорились с местными умельцами сделать веревочную лестницу из бамбука, чтобы повесить на дереве в нашем лагере – на случай совсем уж ахового положения. У лаза под колючей проволокой дежурила бригада егерей на мотоциклах. Форма одежды у них похожа на полицейскую, так что издали я и не сообразил, кто это, а потом уже не до того было. Ждали, оказалось, нас. Разговор был взвинченный, сказали, чтобы мы немедленно убирались оттуда. Я, препираясь, отвечал жестко, с позиций имеющего право, требовал у них документы и сказал, что разговаривать буду только с их начальником. Намекнул, что разрешение на стоянку у нас есть, служебное. Но не был уверен, можно ли упоминать Махеша. Они все были в шлемах, так что лица, и особенно главного из них, который уже перешел на крик после того, что я его пару раз осадил, я не разглядел. Смех и грех в том, что это был заместитель Махеша, мы с ним были знакомы, но не узнали в шлеме. А потом, через несколько дней, в офисе лесничества, ожидая отправления на сафари, я рассказывал в лицах об этом эпизоде дежурному егерю, вроде бы расположенному к веселым историям, и еще удивился, что ни улыбки, ни сочувствия это не вызвало. Это и был он, помощник Махеша, второй раз неузнанный. А там, в лесу, он сам набрал номер начальника и передал мне телефон. Махеш тихим, сожалеющим тоном попросил все же сделать, как они говорят. Уже потом стал понятней расклад на этом кордоне: этот зам Махеша, будучи местным, уже давно подсиживал его, заручившись поддержкой егерей, и ждал момента. В этом свете особенно феерично выглядел мой рассказ о свихнутом горе-егере – ему же.
Вернулись в лагерь, чтобы собрать вещи. Зубаира не было. Лежала записка, что он уезжает домой. Благодарит за все и просит прощения. Собрались, выпили чаю прощального, присели. А день какой чудесный, и лес, и лагерь – жить и жить… Встали, пошли. У Таи рюкзак – чуть меньше ее веса, у меня тоже неподъемный – Зубаир ушел налегке, а вещей на долгую стоянку. Шли, пели песни в голос, она молодец большой, держалась, еще и подбадривала. Не потому, что покидали лес, где, как по ней, вряд ли уцелели бы. Просто видя мое лицо. Долгий путь, в горку. Когда приваливались передохнуть, встать с этим рюкзаком она уже не могла, помогал ей. В деревне неожиданно встретили Зубаира, он был вдали еще и увильнул бы, но заметил, что мы его увидели. Вид у него был мятый и тихий. Повторил нам то, что в записке. Добавив, что на рассвете приходил леопард, рыскал в лагере, пока он отсиживался в своем шалаше. Так ты из-за этого уезжаешь, спросил я его, напугал? Нет, говорит. Мне надо к врачу. А что с тобой, может, я помогу, здесь найдем кого-то? Нет, шепчет, мне надо, и отводит глаза. Тая считала, что это наркотики, что он и в дороге, и в шалаше принимал что-то. Не думаю. Ладно, хорошего ему пути.
Уже к вечеру выйдя на трассу и, как оказалось, опоздав на все возможные колесные, мы заночевали на крыше придорожной продуктовой лавки. Хозяйка и чайханщик, с которыми мы познакомились днями прежде, приготовили ужин, а потом мы волшебно устроились на крыше их хибары, где в дальнем углу сушились стручки красного перца, над головой в листьях пальмы путалась луна. А на рассвете проснулись от веселых и страшных криков снизу, с дороги – это сбежавшиеся крестьяне швыряли горящими факелами и чем попало в слона, пришедшего лакомиться на деревенских огородах. Прямо под нами стоял слон в огненном салюте.
Доехали до поселка на развилке дорог, поселились в тот же наш номер в пустынном отеле. И каждое утро, еще затемно, добирались на попутках до лесничества, чтобы отправиться на подаренные нам сафари, а после них продолжали разведывать округу в поиске какого-нибудь неприхотливого жилья у заповедника, и после вечернего сафари возвращались в темноте на попутках в наш отель, где за окном так протяжно затягивал свою песнь муэдзин, что казалось, мы уже давно не в этой жизни.
Нет, не так. Вслушиваясь, я всякий раз пытался понять, что же эта мелодия и голос делают с нами. По крайней мере, со мной. Он начинался всегда вдруг, и в следующее мгновенье чувство времени исчезало. Сердце продолжало биться, и какие-то слова произносились – мои, ее, даже секундная стрелка на часах двигалась, но время уже не существовало. Там, в этом голосе. Который брал тебя… нет, вбирал в себя. Я выходил на крышу, слушал этот голос во тьме, и мне казалось, что я отчасти начинаю понимать. В нем не было ни любви, ни ненависти. Ни надежды, ни состраданья. Ни добра, ни зла. Ни тела, ни души. Ни рождения, ни смерти. Ни света, ни тьмы. И это была не пустота. Может быть, путь. Но не имевший измерения времени. И направления. Да, ты оставался собой, по эту сторону, со всем тем, что держало тебя здесь, но то, что доносилось оттуда, было сильнее этого «здесь». И главное – оно было не где-то там, а внутри этого «здесь», внутри тебя, и голос доносился не извне. И так было и будет всегда, говорил этот голос. И никакого света в конце тоннеля, понял? Да. И тогда он стихал. Я спускался в номер. Слушал? – спрашивала Тая, не открывая глаз. Как на том свете, говорил я и ложился рядом. Она поворачивалась на бок и, уткнувшись в мое плечо, засыпала.
А потом лег туман. И мы долго шли вдоль проволоки под током, ограждавшим заповедник. В промоинах этого тумана вдруг возникали деревья, будто написанные тушью, тонкой кистью с размывом вверху. И накатывал запах коровьих яслей – это где-то рядом за проволокой шли незримые слоны. Туман понемногу рассеивался, и мы увидели вдали внизу маленький хутор в несколько мазанок, прильнувших к заповеднику, а вокруг ни дорог, ни жилья. Я вздохнул: вот бы где поселиться. Почему нет, сказала она. На таких хуторах жилье не сдается, заметил я, это не туристическая зона, да и нечего им сдавать, даже если б хотели. А когда дошли и я присел покурить, она отлучилась и вернулась, пританцовывая: вон в том домике будем жить.
#61. Диканька
Мы назвали это нашей Диканькой. Благословенной индийской Диканькой в десять мазанок буквально в шаге от джунглей, правда, за рвом и проволокой, но здесь она была смята, а ров засыпан всякой дребеденью. Эти десять мазанок, а на деле их было, наверное, втрое больше, стояли впритык друг к другу и образовывали одну улочку с рукавчиками и дворами, где дремали в тени циклопические белые быки, суетились рябые курицы, слонялись собаки и вечно умывались тощие кошки, а в большой кадушке с водой посреди хутора плескались