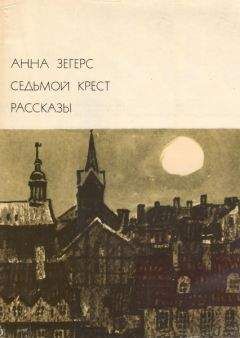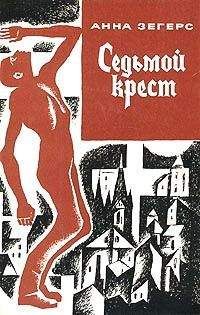Приближавшийся пароход прогудел над Рейном. Мы вытянули головы. На его белом корпусе блестела золотом надпись: «Ремаген». И хотя пароход был еще далеко, я смогла разглядеть это имя моими больными глазами. Я видела клубы дыма из труб и иллюминаторы каюты, видела, как следы парохода на воде то исчезали, то появлялись вновь. Мое зрение привыкло за это время к родному, знакомому миру. Я видела все еще острей, чем когда проходил голландский буксир. Пароходик «Ремаген», скользящий по широкой глади реки, мимо деревень, холмов и гряды облаков, — в этой картине была такая нерушимая гармония и ясность, которой нельзя было отнять, которую ничто в целом свете не могло замутить. Я уже сама различала на палубе и в круглых окнах знакомые лица и слышала, как девушки называли имена: «Учитель Шенк!.. Учитель Райс!.. Отто Хельмхольц!.. Ойген Лютгенс!.. Фриц Мюллер!..»
Все девушки кричали хором:
— Это мужская гимназия! Седьмой класс!..
Сойдут ли мальчики, выехавшие, как и мы, на прогулку, здесь, на ближайшей пристани? Фрейлейн Зихель и фрейлейн Меес после краткого совещания приказали нам, девочкам, построиться по четыре в ряд, так как явно желали избегнуть встречи двух классов. Марианна, у которой косы расплелись еще на качелях, принялась заново укладывать их крендельками, потому что ее более зоркая подружка Лени, с которой она вместе качалась, а потом вместе сидела на стуле, разглядела на борту Отто Фрезениуса, поклонника Марианны, неразлучного с ней на танцах. Лени шептала ей:
— Они сойдут здесь. Он показал мне рукой.
Фрезениус, русый угловатый семнадцатилетний юноша, давно упорно махал нам с парохода. Он готов был броситься вплавь, чтоб соединиться с любимой девушкой. Марианна крепко обхватила Лени. Подружка, которую она позже, когда к ней обратились за помощью, вообще не хотела знать, была для нее как родная сестра, добрая поверенная в горестях и радостях любви, она честно передавала письма, устраивала тайные свидания. Марианна всегда была красивой, цветущей девушкой. Теперь же одна только близость друга придала ей нежность и очарование, и Марианна выделялась среди подруг как дитя из волшебной сказки. Дома Отто Фрезениус уже открылся в своем чувстве матери, которой он поверял все тайны. Мать его сама радовалась удачному выбору и думала, что когда-нибудь позже, если подождать, как положено, ничто не будет препятствовать их браку. Помолвка действительно состоялась, но свадьба — никогда, потому что жених вступил в студенческий батальон и уже в 1914 году погиб в Аргоннах.
Пароход «Ремаген» уже разворачивался, направляясь к пристани. Две наши учительницы, которые вынуждены были дожидаться встречного парохода, чтобы отвезти нас домой, сразу принялись нас пересчитывать. Лени и Марианна с нетерпением глядели на приближающийся пароход. Лени с таким любопытством тянула шею, как будто предчувствовала, что ее собственная судьба и ее будущее зависят от того, соединятся или разлучатся влюбленные. Если бы это зависело только от Лени, а не от кайзера Вильгельма, который объявил мобилизацию, а потом от французского снайпера, Отто и Марианна и вправду составили бы пару. Лени чувствовала, как эти два молодых существа были под стать друг другу душой и телом. Марианна, если бы это произошло, впоследствии не отказалась бы позаботиться о ее ребенке. Отто Фрезениус, может быть, уже заранее нашел бы средство помочь Лени спастись бегством. Возможно, что постепенно ему удалось бы сообщить красивому, нежному лицу своей жены Марианны такие черты справедливости и человеческого достоинства, которые не позволили бы ей предать подругу.
Отто Фрезениус, которому в первую мировую войну суждено было получить пулю в живот, теперь, окрыленный любовью, первым сбежал по сходням к нашему садику. Марианна, по-прежнему обнимая одной рукой Лени, подала ему другую и не отнимала ее. Не только мне и Лени, но всем нам, девушкам, было ясно, что эти двое были влюбленной парой. Они явили нам впервые не вымышленное, не вычитанное из стихов или сказок или из классических драм, но подлинное и живое понятие влюбленной пары, как сама природа его задумала и создала.
Пальчик Марианны задержался в руке Фрезениуса, и лицо ее при этом выражало совершенную преданность, обещавшую теперь и вечную верность этому высокому, худощавому русому юноше. Это в память о нем она по-вдовьи оденется в траур, когда ее письмо, отправленное на полевую почту, вернется с отметкой: «Погиб». В эти тяжкие дни Марианна, обожавшая прежде жизнь со всеми ее большими и маленькими радостями, касалось ли дело ее любви или только качелей, совсем потеряла вкус к жизни. Подружке же ее Лени, которую Марианна теперь обнимала за плечи, в эти дни предстояло встретиться с отпускником Фрицем из семьи железнодорожника, жившего в нашем городе. В то время как Марианна на долгое время окуталась черным облаком, в прелести отчаяния, в очаровании глубокой печали, Лени сияла, как румяное, спелое яблоко. Вот почему обе девушки какое-то время чуждались друг друга — просто по-человечески, как чуждаются друг друга горе и радость. По окончании срока траура, после множества встреч, происходивших в кафе на берегу Рейна, Марианна с тем же выражением вечной преданности на нежном лице, рука в руке друга, как и теперь, заключила новый союз с неким Густавом Либихом, который остался невредимым в первую мировую войну, а впоследствии вступил в эсэсовский отряд нашего города и был произведен в чин штурмбанфюрера. Нет, Отто Фрезениус, если бы он вернулся невредимым с войны, не сделался бы ни штурмбанфюрером, ни доверенным лицом гаулейтера. Печать честности и справедливости, которая уже теперь лежала на его мальчишеском лице, делала его непригодным для такой карьеры и такого рода деятельности. Лени была только довольна, узнав, что отныне судьба обещала новые радости ее школьной подруге, к которой она все еще была привязана, как к сестре. Лени, как и сейчас, была слишком наивна, чтобы предвидеть, что судьбы мальчиков и девочек все вместе составляют судьбу родины, судьбу народа и что поэтому когда-нибудь горе или радость ее школьной подруги может бросить тень или луч света и на нее.
От меня, так же как и от Лени, не ускользнуло выражение лица Марианны, которая легко и как будто случайно оперлась о руку юноши. Здесь давалось безмолвное, но нерушимое обещание навсегда принадлежать друг другу. Лени глубоко вздохнула, словно для нее было особенным счастьем стать свидетельницей подобной любви. Прежде чем Лени и ее мужа арестовало гестапо, Марианне пришлось выслушать от своего мужа Либиха, которому она тоже поклялась в вечной верности, так много нелестных слов по адресу мужа ее школьной подруги, что у нее самой пропало всякое дружеское чувство к девушке, столь мало заслуживающей уважения. Муж Лени ни за что не хотел вступать ни в штурмовые, ни в эсэсовские отряды. Либих, гордый чином и званием, оказался бы там его начальником. Когда он заметил, что муж Лени пренебрегает такой, с его точки зрения, честью, он обратил внимание городских властей на нерадивого соотечественника.
Весь класс реальной гимназии и с ним два учителя высадились наконец на берег. Господин Нееб, молодой учитель со светлыми усиками, раскланявшись с обеими учительницами, устремил пристальный взгляд на нас, девушек, и сразу заметил отсутствие Герды, которую он невольно искал. Герда все еще мыла и нянчила больного ребенка, не подозревая ни о нашествии юношей в сад, ни о том, что ее не хватает учителю Неебу, которому уже раньше запомнились ее карие глаза и запала в душу ее отзывчивость. Лишь после 1918 года, по окончании первой мировой войны, когда Герда сама стала учительницей и когда оба они ратовали за улучшение школьной системы Веймарской республики, должна была произойти их решающая встреча в только что основанном Союзе сторонников школьной реформы. Но Герда оказалась более верной, чем он, старым стремлениям и целям. Женившись наконец на девушке, которую он избрал за ее взгляды, Нееб вскоре начал ценить покой и благосостояние в их совместной жизни больше, чем общие убеждения. Поэтому он и вывесил из окна флаг со свастикой — в противном случае закон грозил ему потерей места, а тем самым и куска хлеба для семьи.
Не только мне бросилось в глаза разочарование Нееба, когда он не нашел в нашей стайке Герды; он сумел разыскать ее лишь впоследствии, чтобы больше не отпускать от себя, но тем самым стал одним из виновников ее смерти. Эльза, кажется, была самой юной среди нас — эта кругленькая девочка с толстой косой и красным, как вишня, круглым ртом. С деланным равнодушием она проронила, что еще одна из наших, Герда, осталась в гостинице, чтобы присмотреть за больным ребенком. Эльза, такая маленькая и незаметная, что мы все ее скоро забыли, как не помнят какой-нибудь круглый бутон в букете цветов, еще не имела собственных любовных историй. Однако она любила обнаруживать их у других, и, напав на след, запускать туда свои лапки. Угадав по блеску в глазах господина Нееба, что она попала в точку, она, как бы случайно, добавила: