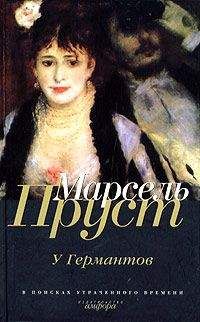— У вас есть какие-нибудь известия о Робере? — спросила она. В эту минуту мимо нас прошла г-жа де Вильпаризи.
— Поздненько же вы являетесь, мосье, когда вас наконец у себя видишь.
Но, заметив, что я разговариваю с ее племянницей, и может быть даже предположив, что отношения между нами интимнее, чем ей было известно, прибавила:
— Однако я не буду мешать вашей беседе с Орианой (ибо услуги сводни составляют часть обязанностей хозяйки дома). — Не хотите ли прийти в среду пообедать вместе с нею?
В среду я условился обедать с г-жой де Стермарья; я отказался.
— А в субботу?
В субботу или в воскресенье возвращалась моя мать, и было бы нелюбезно обедать в эти дни не с нею; поэтому я снова отказался.
— О, да с вами трудно сговориться!
— Отчего вы никогда не зайдете ко мне? — сказала герцогиня Германтская, когда г-жа де Вильпаризи удалилась, чтобы поблагодарить артистов и вручить певице букет роз, вся ценность которого заключалась в преподносившей его руке, так как он стоил не больше двадцати франков. (Это был максимальный расход, на который маркиза шла ради артистов, выступавших один раз. Рядовые участники ее концертов получали розы, написанные хозяйкой.)
— Скучно встречаться только у других. Но если вы не желаете обедать со мной у моей тетки, то отчего бы вам не прийти пообедать ко мне?
Некоторые из засидевшихся под какими-нибудь предлогами гостей, но наконец уходившие, увидя герцогиню сидящей с молодым человеком на узком диванчике, где могло уместиться только двое, подумали, что их плохо осведомили, что разрыва требует не герцог, а герцогиня, и что причиной всему я. Они поспешили распространить эту новость. Я мог прежде всех убедиться в ее ложности. Но меня удивило, что в эти трудные периоды, когда осуществляется еще не завершившийся разрыв, герцогиня, вместо того чтобы уединяться, приглашала к себе человека, которого она так мало знала. Я вообразил, что до сих пор она не принимала меня только вследствие нежелания герцога и что теперь, когда он ее покидал, не видела больше препятствий окружить себя людьми, которые были ей по душе.
Две минуты назад я был бы поражен, если бы мне сказали, что герцогиня Германтская собирается позвать меня к себе, а тем более пригласить к обеду. Хотя я отлично знал, что салон Германтов не может заключать особенностей, которые я извлек из этого имени, но тот факт, что он был мне недоступен, вынуждал меня придавать ему характер салонов, описание которых мы прочитали в романах или которые видели во сне, заставлял меня, даже когда я был уверен, что он похож на все остальные салоны, представлять его совсем по-иному; он отделен был от меня преградой, за которой кончается реальное. Пообедать у Германтов было все равно, что предпринять давно желанное путешествие, вынести мечту из недр сознания и поместить ее во внешний мир, или завязать знакомство с призраком. Самое большее, я мог думать, что речь идет об одном из тех обедов, на которые хозяева дома приглашают так: «Приходите, не будет решительно никого, кроме нас», — словно приписывая парии испытываемую ими боязнь видеть его в обществе других своих знакомых и пытаясь даже превратить в завидную привилегию, приберегаемую только для самых близких друзей, карантин изгоя, дикаря, которому неожиданно оказано покровительство. Я почувствовал, напротив, что герцогиня Германтская желает угостить меня самым приятным, что у нее было, когда она сказала, рисуя мне как бы фиалковую красоту приезда к тетке Фабриция и чудо знакомства с графом Моска.
— Не будете ли вы свободны в пятницу, чтобы провести время в тесном кругу? Это было бы мило. Будет принцесса Пармская, прелестная женщина; если я вас приглашаю, то лишь для того, чтобы вы встретились с приятными людьми.
Пренебрегаемая в промежуточных светских кругах, которые вовлечены в непрерывное восходящее движение, семья играет, напротив, важную роль в кругах неподвижных, вроде мелкой буржуазии и княжеской аристократии, которая не стремится к возвеличению, потому что над нею, с ее специфической точки зрения, нет ничего. Дружба, которую мне свидетельствовали «тетка Вильпаризи» и Робер, должно быть привлекла ко мне (о чем я и не подозревал) любопытство герцогини Германтской и ее друзей, видевшихся только друг с другом и всегда вращавшихся в одном и том же кругу.
Об этих родственниках герцогиня ежедневно получала семейные, будничные сведения, очень отличные от того, что мы воображаем; если в такого рода сведениях упоминается и о нас, то поступки наши не только не выкидываются, как пылинка из глаза или капля воды из дыхательного горла, но иногда запечатлеваются, становятся предметом обсуждения и разговоров целые годы после того, как мы сами о них позабыли, в доме, где мы с удивлением их находим, точно наше письмо в какой-нибудь драгоценной коллекции автографов.
Рядовые светские люди могут защищать двери своего дома от постороннего вторжения. Но двери дома Германтов ему не подвергались. Посторонние почти никогда не имели случая проходить перед ними. Наметив то или иное лицо, герцогиня не интересовалась его положением в свете, потому что положение это было вещью, которую сама она создавала и которая ничего не могла ей прибавить. Она принимала в расчет только личные достоинства, а г-жа де Вильпаризи и Сен-Лу сказали ей, что они у меня есть. И, я думаю, она бы им не поверила, если бы не заметила, что родным ее не удается заставить меня прийти, когда им хочется, и что я, значит, светом не дорожу, а это казалось герцогине признаком принадлежности незнакомца к «приятным людям».
Надо было видеть, как во время разговора о женщинах, которых она недолюбливала, герцогиня менялась в лице, едва только называли в связи с одной из этих женщин имя хотя бы ее невестки. «О, она прелестна», — говорила герцогиня с видом тонкой уверенности. Единственным основанием для этого было то, что дама, о которой шла речь, не согласилась быть представленной маркизе де Шосгро и принцессе Силистрийской. Она умалчивала, что дама эта не согласилась быть представленной также и ей, герцогине Германтской. Однако — так было, и с того дня герцогиня все время ломала голову, что могло происходить у дамы, с которой так трудно познакомиться. Она умирала от желания быть у ней принятой. Светские люди настолько привыкли, чтобы с ними искали знакомства, что всякий, кто их избегает, кажется им диковинкой и всецело завладевает их вниманием.
Действительно ли герцогиня Германтская (после того как я больше не любил ее), пригласила меня потому, что я не искал сближения с ее родными, хотя они искали сближения со мной? Не знаю. Во всяком случае, решив меня пригласить, она хотела попотчевать меня всем, что у ней было лучшего, и удалить тех своих знакомых, которые могли бы помешать мне повторить свой визит, тех, кого она считала скучными. Я не знал, чему приписать изменение пути герцогини, когда она отклонилась от своей орбиты, села рядом со мной и пригласила меня к обеду, — оно было действием неизвестных причин, потому что мы не обладаем специальным органом чувств, который осведомлял бы нас в этом отношении. Мы воображаем, что малознакомые с нами люди — как в данном случае герцогиня — думают о нас только в редкие минуты, когда они нас видят. Между тем идеальное забвение, которому они будто бы нас предают, есть чистейшая выдумка. Настолько, что когда в тишине одиночества, подобной тишине ясной ночи, мы воображаем себе светских королев шествующими своим небесным путем на бесконечном расстоянии от нас, то невольно вздрагиваем от неприятного чувства или от удовольствия, если на нас падает сверху, точно аэролит с высеченным на нем нашим именем, которое мы считали неизвестным на Венере или на Кассиопее, приглашение к обеду или злая сплетня.
Быть может, — в подражание персидским царям, которые, по словам «Книги Эсфирь», заставляли читать себе памятную книгу, куда вписаны были имена граждан, засвидетельствовавших им свою преданность, — герцогиня Германтская, заглядывая иногда в список людей благонамеренных, говорила обо мне: «Человек, которого мы пригласим к обеду». Но другие мысли отвлекали ее:
//(Вседневной суетой властитель поглощен
И от одних к другим делам стремится он)//
до того мгновения, когда она меня заметила сидящим в одиночестве, как Мардохей у ворот дворца; вид мой освежил ее память, и, подобно Артаксерксу, она пожелала осыпать меня своими милостями.
Однако я должен сказать, что изумление противоположного рода сменило во мне то, которое я почувствовал, когда герцогиня Германтская пригласила меня. Я нашел, что скромность и признательность требуют от меня не скрывать его, а, напротив, в преувеличенной форме выразить доставленное им удовольствие. Герцогиня, собиравшаяся на другой вечер, в ответ на это сказала, как бы в оправдание своего поступка, боясь, чтобы я не истолковал его превратно, — настолько удивленный был у меня вид: «Вы ведь знаете, что я тетка Робера де Сен-Лу, который вас очень любит, и притом мы уже встречались здесь». Я ответил, что мне это известно и что я знаком также с г-ном де Шарлюсом, который «был очень добр ко мне в Бальбеке и в Париже». Это по-видимому удивило герцогиню, и взгляд ее направился, точно для проверки, к какой-то более старой странице внутренней книги. «Как, вы знакомы с Паламедом?» Имя это приобрело в устах герцогини большую нежность благодаря естественности и простоте, с которой она говорила о столь блестящем человеке, являвшемся для нее, однако, только деверем и кузеном, товарищем ее детства. Имя Паламед вносило в серую мглу, которой была для меня жизнь герцогини Германтской, ясность тех длинных летних дней, когда она девочкой играла с ним в саду в Германте. Больше того, в этот давно уже миновавший период их жизни Ориана Германтская и кузен ее Паламед были совершенно не похожи на то, чем они стали теперь: г. де Шарлюс был тогда всецело поглощен искусством, вкус к которому он настолько обуздал впоследствии, что я был крайне изумлен, узнав, что он автор желтых и черных ирисов на огромном веере, который раскрывала в эту минуту герцогиня. Она могла бы также показать мне маленькую сонатину, которую он когда-то сочинил для нее. Я совершенно не подозревал, что барон обладает всеми этими талантами, о которых он никогда не говорил. Заметим мимоходом, что г. де Шарлюс был далеко не в восторге от того, что в семье его называли Паламедом. Что касается «Меме», то еще можно было понять, почему это уменьшительное ему не нравилось. Подобного рода нелепые сокращения свидетельствуют о непонимании аристократией собственной поэзии (таким же непониманием отличаются, впрочем, и евреи; племянник леди Руфус Израэльс, называвшийся Моисеем, известен был в свете под кличкой «Момо») и в то же время о ее старании иметь такой вид, точно она не придает значения аристократическим особенностям. А у г-на де Шарлюса было в этой области больше поэтического воображения и показной гордости. Но причина его недолюбливания «Меме» заключалась не в этом, ибо ему не нравилось и красивое имя Паламед. Нет, зная свою принадлежность к знатному роду и дорожа ею, барон хотел бы, чтобы брат и невестка говорили о нем: «Шарлюс», подобно тому как королева Мария-Амелия или герцог Орлеанский могли говорить о своих сыновьях, внуках, племянниках и братьях: «Жуанвиль, Немур, Шартр, Пари».