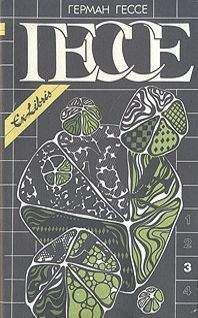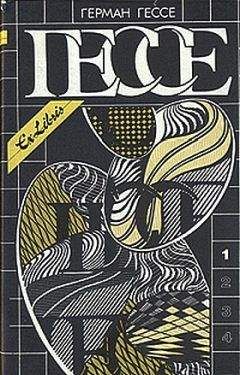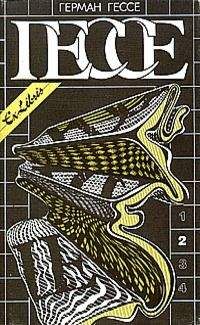Дело обстояло так: к тридцати годам я окончательно понял, что хочу или стать поэтом, или вообще не стать никем. Одновременно с этим я мало-помалу осознал одну неприятную вещь: можно стать учителем, священником, врачом, ремесленником, торговцем, почтовым служащим, а также музыкантом, художником или архитектором — для всех специальностей на свете существуют предпосылки, пути подхода, школы и методы обучения. Только для поэта ничего такого не существует! Быть поэтом не возбранялось и даже было почетно: под этим подразумевались удача и известность, обычно посмертные. Но стать поэтом, как я вскоре понял, невозможно, а хотеть им стать смешно и стыдно. Я очень быстро во всем разобрался: поэтом можно только быть, но не стать. И еще: тяга к поэтическому творчеству и поэтический талант вызывали у учителей опасение, за это не только брали на заметку или высмеивали, но даже часто смертельно оскорбляли. С поэтами дело обстояло точно так же, как с героями и со всеми сильными или прекрасными, храбрыми и незаурядными личностями и стремлениями: в прошлом они великолепны, все учебники воздают им хвалу, но те, кто живет в настоящее время, современники — изгои, и учителя, вероятно, призваны и обучены, по возможности, препятствовать становлению замечательных, свободных людей и свершению великих деяний.
Таким образом, между собой и своей далекой целью я не видел ничего, кроме пропасти, все было неопределенно, только одно не вызывало у меня сомнений: я хотел стать поэтом независимо от того, легко ли это или тяжело, смешно или почетно. Ощутимые последствия моего решения — или скорее веления злой судьбы — были следующими.
Когда мне исполнилось тринадцать лет и конфликт едва начинался, мое поведение как в стенах родительского дома, так и в школе, оставляло настолько желать лучшего, что меня отправили в ссылку в латинскую школу другого города[104]. Годом позднее я стал слушателем теологической семинарии[105], учил древнееврейский алфавит и уже почти понимал, что означает «дагеш форте имплицитум»[106], когда внезапно на меня обрушились бури, которые вырвались из глубин моей души и привели к бегству из монастырской школы, наказанию строгим карцером и прощанию с семинарией.
Какое-то время я старался продолжать учение в некой гимназии[107], но и там все кончилось карцером и исключением. Потом я был три дня учеником продавца в книжной лавке, снова сбежал и на несколько дней и ночей, к великому беспокойству родителей, исчез. Полгода я помогал отцу, полтора года был практикантом в механической мастерской и на заводе башенных часов[108].
Короче говоря, более четырех лет все, что со мной пытались предпринять, шло шиворот-навыворот, ни одна школа не хотела меня терпеть, а я не мог выдержать никакого учения. Любая попытка сделать из меня полезного человека неизменно кончалась неудачей, сопровождавшейся зачастую скандалом и позором, побегом или исключением, и тем не менее везде признавали у меня хорошие способности и даже видели какие-то проблески доброй воли! Кроме того, хотя я постоянно отличался изрядным прилежанием, — великая добродетель праздности всегда вызывала у меня глубокое уважение, но мне никогда не удавалось стать искусным бездельником. С пятнадцати лет, после того как мне не повезло со школой, я начал осознанно и энергично заниматься самообразованием, и, на мое счастье, в доме отца была огромная дедова библиотека, принесшая мне блаженство, целый зал, полный старых книг, среди которых были и такие, что содержали всю немецкую поэзию и философию восемнадцатого века. Между шестнадцатью и двадцатью годами я не только исписал гору бумаги первыми виршами, но прочел за это время половину мировой литературы и трудился над историей искусства, иностранными языками, философией с упорством, которого с лихвой хватило бы для обычной школы.
Потом я стал книготорговцем, чтоб наконец самому зарабатывать себе на жизнь. Книги, как-никак, привлекали меня больше, чем тиски и чугунные шестерни, с которыми я мучился, будучи механиком. Сначала я чуть ли не с упоением плавал в море новой и новейшей литературы и, можно сказать, захлебывался ею. Но через некоторое время я обнаружил, что в духовной области жить лишь сегодняшним днем, новым и новейшим, невыносимо и бессмысленно, что только постоянная связь с прошлым, с историей, стариной и древностью, только она дает возможность жить духовной жизнью. И вот, после того как от первой радости не осталось и следа, возникла потребность вернуться от пресыщения новейшим к старине, и я удовлетворил ее, перейдя из книжной лавки в магазин антикварных изделий. Этой работы я не менял до тех пор, пока она могла обеспечить мне существование. В возрасте двадцати шести лет, с первым литературным успехом[109], я отказался и от нее.
Итак, после столь многих потрясений и жертв, я достиг своей цели: я стал поэтом, какой бы несбыточной мечтой это ни казалось, выиграл длительное жестокое противоборство с окружающим миром. Горькие годы ученичества и становления, когда я часто был на краю гибели, забылись и уже вызывали насмешку, и даже родственники и друзья, потерявшие было веру в меня, теперь мне дружески улыбались. Я победил, и даже мои глупые и ничего не стоящие сочинения все находили восхитительными, и я точно так же сам восхищался ими. Только теперь, поняв, в каком ужасном одиночестве, подвергаясь лишениям и опасностям, жил я год за годом, я стал нежиться в теплом ветерке похвал и начинал превращаться в довольного человека.
Внешне моя жизнь сравнительно длительное время текла спокойно и приятно. У меня были жена, дети, дом и сад[110]. Я писал книги, считался достойным поэтом и жил в добром согласии с миром. В 1905 году я помогал основать журнал[111], направленный в первую очередь против личной власти Вильгельма Второго[112], правда, словно бы не принимая душой всерьез этой политической цели. Я с удовольствием путешествовал по Швейцарии, Германии, Австрии, Италии и Индии[113]. Все, казалось, обстояло благополучно.
И вот пришло лето 1914 года, и внезапно все изменилось и внешне, и по существу. Оказалось, что наше прежнее благополучие покоилось на ненадежном фундаменте и теперь начались, таким образом, плохие времена, пришло великое воспитание. Нагрянуло так называемое великое время, и я не могу сказать, будто был к нему более подготовлен, более достоин его и встретил его лучше, чем все остальные. Что меня отличало, так это отсутствие воодушевления — того великого утешения, ощущавшегося всеми. Это заставило меня вернуться к самому себе и вступить в конфликт со всем окружающим меня миром, я снова попал в школу, снова должен был разучиваться жить в добром согласии с самим собой и со всем миром и лишь с такими чувствами переступил через порог посвящения в тайну жизни.
Я никак не могу забыть небольшое событие, происшедшее на первом году войны. Я посетил большой лазарет в поисках возможности добровольцем осмысленно приноровиться к изменившемуся окружающему миру, что в то время казалось мне возможным. В этом госпитале для раненых я познакомился с пожилой незамужней женщиной, в хорошие времена не имевшей определенных занятий и работавшей теперь в этом лазарете сиделкой. Она рассказала мне с трогательным воодушевлением, что очень рада и горда тем, что живет в такое необыкновенное время. Я понимал ее волнение, так как потребовалась война, чтобы превратить вялое и чисто эгоистическое существование старой девы в деятельную и полноценную жизнь. Но когда она говорила со мной о своем счастье в коридоре, который был заполнен изрешеченными, забинтованными солдатами и который тянулся вдоль палат, где лежали человеческие обрубки и умирающие, мое сердце содрогнулось. Прекрасно понимая воодушевление этой тетушки, я тем не менее не мог разделять и поддерживать его. Если на каждые десять раненых приходилась одна такая восторженная сиделка, то счастье таких дам обходилось весьма дорого.
Нет, я не мог разделять радость по поводу великого времени, и вышло так, что с начала войны эта радость приносила лично мне ужасные страдания и я целый год защищался от обрушившегося, казалось, извне, с ясного неба, несчастья, в то время как все вокруг меня во всем мире поступали так, словно радостное воодушевление, вызванное этим несчастьем, переполняло их. И оттого, что я читал газетные статьи писателей, расписывавших открытую ими благодать войны, и призывы профессоров, и все военные стихи из кабинетов прославленных поэтов, мне становилось еще горше.
В один из дней 1915 года у меня вырвалось публичное признание этой горечи и слово осуждения так называемых людей духа, занимавшихся не чем другим, как проповедью ненависти, распространением лжи и восхвалением несчастья. Но стоило мне только довольно робко высказать свои сетования, как пресса моей родины объявила меня изменником — это привело к новым переживаниям, потому что, несмотря на многократные соприкосновения с прессой, я еще не попадал в положение человека, оплеванного большинством. Статья с обвинением в мой адрес[114] была перепечатана двадцатью газетами страны, и из всех моих, казалось, многочисленных друзей в прессе лишь двое отважились выступить в мою защиту. Старые друзья говорили мне, что они пригрели на груди змею и что сердце в этой их груди будет биться лишь для императора и империи, но не для меня, отщепенца. Я получил большое количество оскорбительных писем, а книготорговцы довели до моего сведения, что автор с такими недостойными убеждениями для них больше не существует. На многих письмах я впервые узрел украшение в виде маленького круглого штампа с надписью: «Боже, покарай Англию».