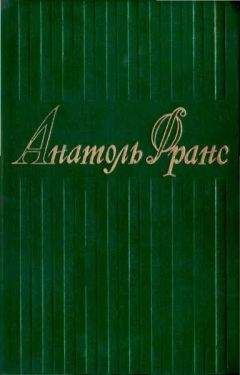— Да он и в самом деле был любопытен и болтлив, как баба, — добавлял г-н Дюбуа. — Когда я его видел, он был толстый и желтый. Нельзя судить о нем по бюстам и портретам. Художники по его приказу прихорашивали его под античного героя. Он был вульгарен в манерах, невежлив с женщинами, неряшлив, вечно обсыпал себя табаком и ел прямо руками.
Мой крестный, г-н Данкен, который боготворил императора, при этих словах подскакивал от негодования.
— Я тоже его видел! — восклицал он. — В тысяча восемьсот пятнадцатом году восьмилетним мальчиком я сидел верхом на плечах отца. Император въезжал в Лион; у него было царственно прекрасное лицо. Не я один, огромная толпа была потрясена величием его облика, все окаменели, словно увидели голову Медузы. Никто не мог вынести его взгляда. А руки его, которые переворошили весь мир, были малы, как у женщины, и безупречны по форме.
В те годы Наполеон занимал в умах людей огромное место. Еще и двух поколений не сменилось после дней его славы. Не прошло и двадцати лет с тех пор, как его прах перевезли на погребальной колеснице к берегам Сены. Две его сестры, три брата, сын, его маршалы один за другим сходили в могилу, и каждая смерть, точно эхо, вызывала отзвук его имени. Один из его братьев, несколько генералов, множество солдат и соратников были еще живы. Некоторые старые простодушные люди, вроде моей няни Мелани, верили, что и сам он жив до сих пор.
При разговорах о нем неизменно разгорались страсти.
— Это был величайший из полководцев, — говорил г-н Данкен.
— Охотно верю, если измерять его величие колоссальными поражениями, — возражал г-н Дюбуа.
Завязавшись, спор развивался всегда по тому же направлению.
Г-н Данкен. Он был гениален в войне, так же как и в других областях. Его орлиный взор охватывал все сразу. Он обладал хладнокровием, поразительной памятью, знанием людей, умением увлекать толпу, исключительной трудоспособностью. Он вникал во все мелочи, подчиняя их главной цели. Его деятельность перешла границы, доступные силам человеческим.
Г-н Дюбуа. Он знал людей, но ненавидел людей выдающихся. Он терпел около себя только посредственность, предпочитая ничтожных лейтенантов и чиновников. И когда в час испытания ему понадобились сильные люди, вокруг него никого не оказалось. Бесспорно, он обладал большим умом; взгляд его был проницательным, когда его не ослепляло честолюбие. Но это был низменный ум. Он смотрел на людей и на явления не как философ, а как администратор. Равнодушный к теориям, чуждый всякой философии, он не интересуется ничем, что не служит его непосредственным планам. Даже в его собственной сфере, в механике, он отвергает то, из чего нельзя немедленно извлечь практическую пользу, как, например, пароходы и паровозы. Ему совершенно недоступны бескорыстные идеи и отвлеченное мышление. Он никогда не понимал гения Лавуазье, Биша или Лапласа. Он питал отвращение к мысли.
Г-н Данкен. Значит, ему претили пустые рассуждения и бесплодные идеи. Это был человек действия.
Г-н Дюбуа. Он был лишен чувства меры. В нем можно найти поразительные контрасты. Он деятелен, энергичен, но подчас впадает в романтизм. Это великий человек и вместе с тем ребенок. Взгляните на эскизы, которые набросал e него Жироде в театре Сен-Клу: [311] его круглая голова — это голова ребенка, если хотите, сына Титана, но настоящего ребенка. В нравственном отношении он сохраняет детскую силу иллюзии, любовь к грандиозному, необычайному и чудесному, неуменье обуздать свои желания, легкомыслие даже в самые опасные минуты и способность легко забывать; эту способность люди теряют в отрочестве, а он сберег ее до зрелых лет.
Г-н Данкен. Надо же было дать отдых уму, напряженному до предела: ведь он вмещал в себе целый мир.
Г-н Дюбуа. Это был игрок, и, как все игроки, он кончил плачевно. Он сказал однажды: «Ничего нельзя совершить, если ждать, пока все шансы будут на твоей стороне». Слова эти обличают игрока. Игроки жаждут сильных ощущений. Для азарта им необходимо чувство неуверенности. Они не получали бы удовольствия, если бы играли наверняка. Наполеон миру предпочитал войну, ибо на войне больше риску и больше шансов на выигрыш. И когда он проиграл на поле битвы, он вновь прибегнул к военной игре, чтобы вернуть потери.
А что оставил после себя ваш герой? В чем состоит дело его жизни? Он сам сурово осудил себя в Мюнхене не то в тысяча восемьсот пятом, не то в тысяча восемьсот девятом году, когда, увидев в отведенных ему покоях портрет Карла Двенадцатого, сказал с глубоким презрением: «Уберите отсюда портрет. Этот человек — неудачник». В тот день он сам произнес свой приговор в трибунале истории, он, кому среди великих людей было суждено стать великим неудачником.
Г-н Данкен. Как неудачником?.. Он спас Францию от анархии, он закрепил завоевания Революции; растопив в горниле своего гения старый общественный строй и новый, он получил сплав небывалой прочности, мощи и красоты, непроницаемый для огня и железа, для факелов гражданской войны и вражеских душек! Он создал новую Францию и даровал отчизне то, что ей дороже золота, насущнее хлеба — Славу.
При этом брелоки на животе г-на Данкена воинственно гремели, а г-н Дюбуа вертел в руках табакерку, словно желая вдохновиться и придать своей мысли четкость ее геометрических линий. В этот миг оба они составляли группу, достойную занять место на картине Рафаэля «Афинская школа»[312].
Мой крестный любил сражения, хотя видел их только в живописи. Г-н Дюбуа, переживший отступление через Березину, навсегда сохранил отвращение к войнам. Выйдя в отставку в 1814 году, он не вернулся на военную службу и при Реставрации, которую ненавидел не меньше, чем Наполеоновскую империю. Он вздыхал о временах Марка Аврелия.
В тот год, за неделю до начала занятий, я повидался с Фонтанэ, который вернулся из Этрета коричневый от загара, с голосом еще более густым и важным, чем прежде. Он оставался таким же тщедушным, но восполнял низенький рост возвышенностью мыслей. Поведав мне о морском купанье, играх, катанье на лодке и опасных приключениях, он нахмурил брови и сказал суровым тоном:
— Нозьер, мы переходим в старшие классы; мы на перепутье. В этом году тебе предстоит принять важное решение; думал ли ты об этом?
Я ответил, что еще не думал, но, вероятно, выберу литературу.
— А ты как? — спросил я.
Фонтанэ ответил, мрачно нахмурив лоб, что это слишком серьезный вопрос, что его нельзя решать необдуманно.
И удалился, оставив меня смущенным, уничтоженным, полным зависти к юному мудрецу.
Чтобы понять наш разговор, надо знать, что в те годы ученикам французского коллежа, одолевшим классы грамматики, вменяли в обязанность при вступлении в третий класс делать выбор между филологическими и точными науками, и подростки четырнадцати — пятнадцати лет, оказавшиеся «на перепутье», как тогда говорили, принуждены были по собственному разумению или по совету родителей избрать ту или иную отрасль знаний, ни мало не смущаясь необходимостью отвергать словесность ради алгебры и не следовать отныне за хором всех девяти муз, которых г-н Фортуль счел нужным разъединить[313].
Между тем, какое бы решение мы ни приняли, оно наносило нашему развитию большой ущерб: ведь точные науки, отторгнутые от филологии, становятся сухими и механическими, а филология, лишенная науки, бесплодна, ибо наука есть сущность филологии. Должен признаться, однако, что тогда подобные соображения еще не приходили мне в голову.
Самое удивительное то, что родители в разговора со мной никогда не затрагивали этой темы. Стараясь вникнуть в причины их молчания, я могу объяснить это отчасти робостью отца, который никогда не настаивал на своих мнениях, отчасти тревогой матушки, чьи взгляды на этот счет еще не установились. Но вот в чем была главная причина их сдержанности: матушка не сомневалась, что, какую бы дорогу я ни избрал, всюду проявятся моя еще смутные, но блестящие дарования, отец же полагал, что как в филологии, так и в точных науках я никогда ничего путного не добьюсь. Что касается отца, у него был еще один повод не высказываться передо мной об этой реформе: она была проведена после государственного переворота[314], по постановлению г-на Ипполита Фортуля, министра народного просвещения, в 1852 году и была связана с самыми жгучими политическими вопросами. Как ревностный католик, отец одобрял мероприятие, как будто идущее на пользу церкви за счет учебного ведомства, но как противник Империи он относился подозрительно к дарам врага и сам не знал, что думать. Его молчание мешало мне составить собственное мнение обычным способом, то есть попросту занять противоположную позицию. Но я твердо стоял за филологические науки; они казались мне легкими, изящными и близкими, и я преувеличивал трудность решения лишь для того, чтобы придать себе весу и не показаться менее серьезным, чем Фонтанэ. Ночью я спал безмятежным сном. Наутро, встретив Жюстину, которая подметала пол в столовой, я напустил на себя мрачный вид и сказал с важностью: