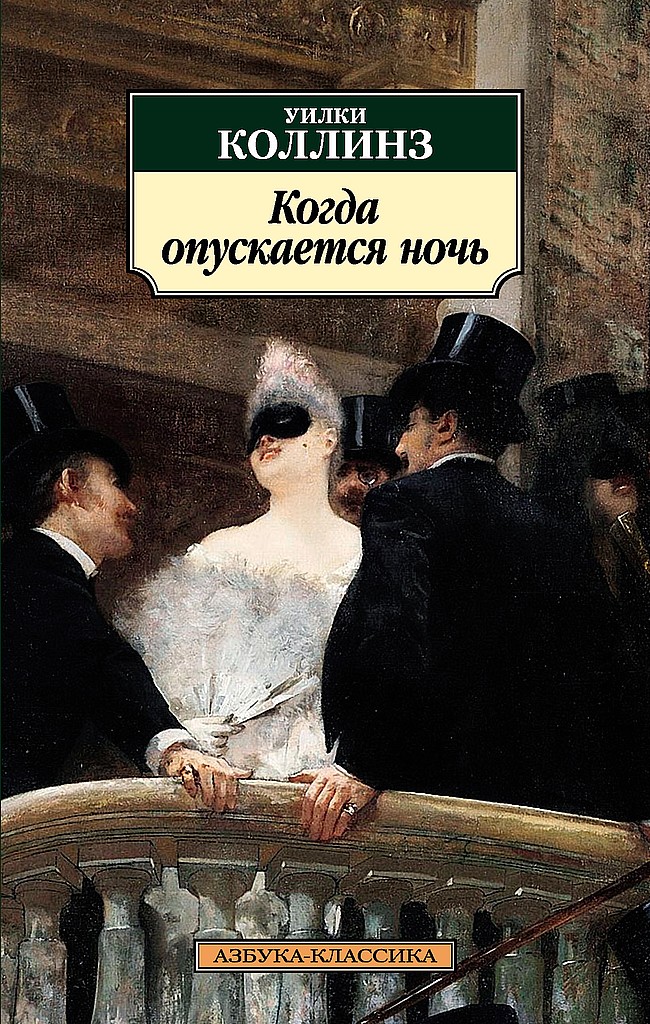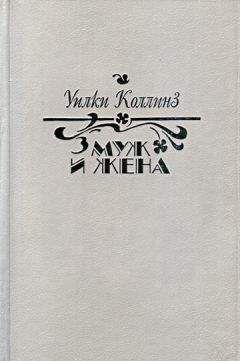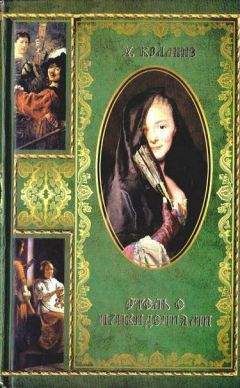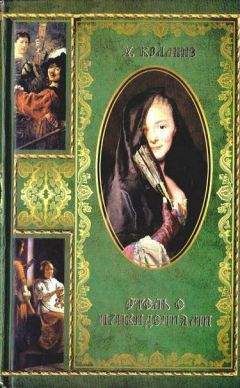на его лицо. Патер Рокко настолько глубоко задумался, что не слышал беседы двух дам, которые прошли по набережной прямо у него за спиной и тоже направились к мосту. Едва не задев его, та, что повыше, обернулась и вгляделась.
— Патер Рокко! — воскликнула она и остановилась.
— Донна Бриджида! — вскричал священник; поначалу он не смог скрыть удивления, но быстро совладал с собой и поклонился со своей обычной спокойной учтивостью. — Вы ведь простите меня, если я поблагодарю вас за честь, которую вы оказали мне, возобновив наше знакомство, и поспешу в мастерскую брата. Нас ожидает тяжкая утрата, мне нужно подготовить его.
— Вы имеете в виду опасную болезнь вашей племянницы? — спросила Бриджида. — Я услышала о ней вот только что. Надеюсь, ваши опасения преувеличены и мы еще увидимся при менее печальных обстоятельствах. Сейчас у меня нет намерения покинуть Пизу в ближайшем будущем, и я буду рада любому случаю поблагодарить патера Рокко за вежливость и чуткость, с которыми он отнесся ко мне в деликатной ситуации год назад.
С этими словами она присела в почтительном реверансе и направилась дальше, нагнав подругу. Священник заметил, что мадемуазель Виржини задержалась неподалеку, будто хотела подслушать несколько слов из его разговора с Бриджидой. Заметив это, он в свою очередь прислушался, когда дамы медленно двинулись прочь, и до него донеслись слова итальянки, обращенные к спутнице: «Виржини, готова спорить на стоимость нового платья, что Фабио д’Асколи женится снова».
При этих ее словах патер Рокко вздрогнул, будто наступил на горящий уголь.
— И я думал о том же! — испуганно прошептал он. — И я думал о том же, когда она обратилась ко мне! Женится снова? Другая жена, на которую у меня не будет никакого влияния! Другие дети, чье воспитание вверят не мне! Что станется тогда с возвращением похищенного, на которое я рассчитывал, за которое боролся, о котором молился?
Он остановился и уставился в небо над головой. На мосту было безлюдно. Черная фигура священника — прямая, неподвижная, призрачная — застыла, осиянная тихим белым светом, торжественно озарявшим все вокруг. Патер простоял так несколько мгновений — и первым его движением был гневный удар кулаком по парапету. Затем он медленно повернулся в ту сторону, куда удалились две дамы.
— Донна Бриджида, — произнес он, — я готов спорить на стоимость пятидесяти новых платьев, что Фабио д’Асколи никогда больше не женится!
Он снова обратился в сторону мастерской и до самой двери скульптора не останавливался.
«Женится снова! — подумал он, звоня в звонок. — Донна Бриджида, неужели вам мало одного поражения? Хотите попробовать еще раз?»
Лука Ломи сам открыл дверь. И потащил патера Рокко в мастерскую, к единственной лампе, горевшей на пустом пьедестале у перегородки между двумя комнатами.
— Ты слышал что-нибудь о нашей бедной малютке? — спросил он. — Говори правду! Сейчас же скажи мне правду!
— Тише! Мужайся. Да, слышал, — отвечал патер Рокко тихим скорбным голосом.
Пальцы Луки впились в локоть священника, он взглянул в лицо брату, задыхаясь и онемев от волнения.
— Мужайся, — повторил патер Рокко. — Мужайся и будь готов к худшему. Мой бедный Лука, врачи оставили всякую надежду.
Лука застонал от отчаяния и выпустил руку брата:
— О Маддалена, дитя мое, мое единственное дитя!
Повторяя эти слова, он прислонился лбом к перегородке и горько разрыдался. При всей грубости и низменности своей натуры он искренне любил дочь. Она и скульптуры были для него главным в жизни.
Когда первый припадок горя прошел, Лука вдруг ощутил, что освещение в мастерской изменилось, и несколько пришел в себя. Поднял голову и смутно различил, что священник стоит в дальнем углу, у самой двери, держит лампу в руке и пристально что-то разглядывает.
— Рокко! — воскликнул мастер. — Рокко, зачем ты унес лампу? Что ты там делаешь?
Ни ответа, ни движения. Лука приблизился на шаг-другой и снова окликнул:
— Рокко, что ты там делаешь?
На сей раз священник услышал его и вдруг бросился к брату с лампой в руке — от неожиданности Лука даже вздрогнул.
— Что случилось? — изумленно спросил он. — Боже милосердный, Рокко, ты же весь побледнел!
Священник по-прежнему не произносил ни слова. Он поставил лампу на ближайший стол. Лука заметил, что рука у него дрожит. Он еще никогда не видел брата в таком волнении и возбуждении. Всего несколько минут назад Рокко сообщил, что Маддалена неминуемо умрет, но тогда его голос был совершенно спокойным, хотя и полным скорби. Как же понимать этот внезапный ужас, эту странную немую панику?
Священник перехватил встревоженный взгляд брата.
— Идем! — еле слышно прошептал он. — Идем к ее одру, нельзя терять ни минуты. Бери шляпу, а я потушу лампу.
Он торопливо погасил огонь. Они вместе, бок о бок прошли через мастерскую к двери. В окно на то место, где минуту назад стоял священник с лампой в руке, струился яркий лунный свет. Когда они проходили мимо, Лука почувствовал, как его брат содрогнулся, и увидел, как тот отворачивается.
Два часа спустя Фабио д’Асколи и его жена разлучились в этом мире навеки, и слуги во дворце перешептывались, ожидая приказа подготовить погребальную процессию для их госпожи на кладбище Кампо-Санто.
Месяцев через восемь после того, как графиню д’Асколи опустили в могилу на кладбище Кампо-Санто, высшее общество Пизы всколыхнули два известия, вызвавшие всеобщее любопытство и заставившие всех замереть в нетерпении.
Первое состояло в том, что во дворце Мелани будет дан роскошный бал-маскарад по случаю совершеннолетия наследника. Все друзья дома пришли от мысли об этом пышном празднике в полнейший восторг, поскольку старый маркиз Мелани пользовался репутацией одного из самых гостеприимных и одновременно самых эксцентричных пизанцев. Поэтому все рассчитывали, что раз уж он решил устроить бал, то ради развлечения своих гостей будет готов на все и их ожидают самые диковинные и невиданные маски, костюмы, танцы и увеселения.
Второе известие состояло в том, что богатый вдовец Фабио д’Асколи вот-вот возвратится в Пизу после путешествия по дальним странам, предпринятого для восстановления его здоровья и поднятия духа, и, вероятно, снова появится в свете впервые со дня смерти жены на том самом балу-маскараде во дворце Мелани. Это объявление вызвало особый интерес среди молодых пизанских дам. Фабио только в этом году должно было исполниться тридцать лет, и, по всеобщему убеждению, его возвращение в высшее общество родного города главным образом означало, что он намерен найти вторую мать для своей маленькой дочери. Теперь все незамужние дамы были готовы поспорить,