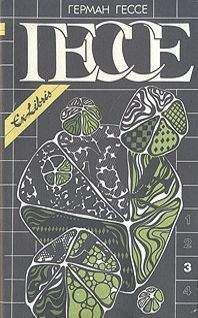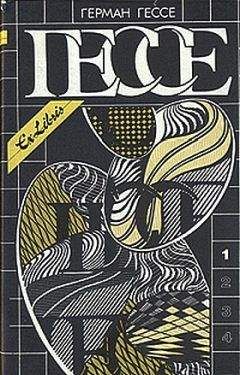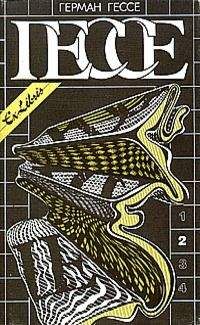К сожалению, мне не удалось закончить эту оперу[118]. С ней произошло то же самое, что и с моими сочинениями. Мне пришлось расстаться с литературой после того, как я увидел, что все, казавшееся мне важным, уже тысячу раз сказано яснее, чем я смог бы это сделать сам, в «Золотом горшке» и в «Генрихе фон Офтердингене».
То же самое случилось с моей оперой. Именно в ту минуту, когда я закончил длившиеся долгие годы предварительные занятия музыкой и многочисленные варианты либретто в поисках наиболее убедительного представления смысла и содержания моего детища, я внезапно понял, что добился своей оперой лишь того, что уже давно блистательно прозвучало в «Волшебной флейте».
Поэтому я отложил эту работу в сторону и целиком посвятил себя практической магии. Если моя мечта об искусстве была самообманом, если я не был способен создать еще один «Золотой горшок» или вторую «Волшебную флейту», то зато я рожден для волшебства. Я уже давно настолько далеко продвинулся по стезе восточной мудрости Лао-цзы и Ицзин[119], что смог досконально изучить случайности и превращения так называемой действительности. Теперь я сам повелевал этой действительностью при помощи магии и, должен сказать, получал от этого большое удовольствие. Все же вынужден сознаться, что не всегда оставался в прелестном саду, называемом белой магией, а время от времени добывал себе маленькие живительные язычки огня у ее черной сестры.
Вскоре после того как мне перевалило за семьдесят и два университета удостоили меня присвоением звания почетного доктора, я предстал перед судом по обвинению в совращении с помощью колдовских чар одной девушки. В тюрьме я попросил разрешения заняться живописью. Оно мне было дано. Друзья принесли мне краски и кисти, и я написал на стене моей камеры маленький ландшафт. Таким образом, я вернулся к искусству, и все кораблекрушения, которые мне уже пришлось пережить как художнику, не смогли никоим образом помешать мне еще раз осушить эту славную чашу, еще раз соорудить себе, подобно играющему ребенку, маленький, любимый игрушечный мир и этим утешить сердце, еще раз изобразив всю мудрость и абстракцию и ощутив простую радость созидания. Таким образом, я снова малевал, смешивал краски и макал кисти, еще раз с восторгом отведал всех этих нескончаемых таинств: светлого веселого звучания киновари, глубокой, чистой желтизны, бездонной, трогающей сердце синевы и музыки их смешения в едва заметный, почти бесцветный, серый цвет. Счастливо и по-детски играл я в игру созидания и написал на стене моей камеры ландшафт. В этом ландшафте было все, чему я радовался в жизни: реки и горы, моря и облака, крестьяне, убирающие урожай, и еще множество прекрасных вещей, которые доставляли мне удовольствие. В центре картины я нарисовал совсем маленький движущийся поезд. Он взбирался на гору и уже, как червяк в яблоко, всунул в нее голову: паровоз вошел в маленький туннель, из которого вылетали клочья дыма.
Еще никогда моя игра так не восхищала меня, как на этот раз. Благодаря возвращению к искусству я не только забыл, что я заключенный и обвиняемый и у меня мало надежд провести остаток жизни где-нибудь в другом месте, кроме тюрьмы, — я часто забывал даже мои магические упражнения и казался себе в достаточной степени волшебником, малюя тоненькой кисточкой крошечное деревце или белое облачко.
Между тем так называемая действительность, с которой я на самом деле уже не имел ничего общего, старалась мою мечту изо всех сил высмеять и каждый раз снова разрушить. Почти ежедневно меня извлекали из камеры, отводили под охраной в высшей степени непривлекательные помещения, где в центре сидели, заваленные бумагами, несимпатичные чиновники, которые меня допрашивали, не хотели мне верить, орали на меня и обращались со мной то как с трехлетним ребенком, то как с отъявленным преступником. Не надо быть преступником, чтобы познать этот странный, действительно кошмарный мир канцелярий, ведомственных бумаг и актов. Из всех адов, которые человеку пришлось странным образом создать для собственных нужд, этот казался мне всегда самым адским. Как только ты захочешь куда-нибудь переехать или жениться, получить паспорт или свидетельство о гражданстве, ты всегда сразу же оказываешься в центре этого ада и должен проводить тягостные часы в душном помещении, олицетворяющем мир бумаг, где скучающие и тем не менее торопящиеся чиновники с постными лицами начнут тебя допрашивать, кричать на тебя, где, как бы просто и правдиво ты ни отвечал, с тобой будут разговаривать и обращаться или как со школяром, или как с преступником. Впрочем, подобное знакомо каждому. Я бы уже давно задохнулся и засох в этом бумажном аду, если бы мои краски каждый раз меня снова не подбадривали и не радовали, если бы моя картина, мой маленький прекрасный ландшафт не давал мне вновь воздух и жизнь.
Так стоял я однажды в моей камере перед этой картиной, когда тюремщики снова прибежали ко мне со своим скучным вызовом к следователю и хотели оторвать меня от любимого дела. И тут я почувствовал усталость и нечто вроде отвращения ко всей этой грубой и бездуховной действительности. Я подумал, что пришло время положить конец мучениям. Раз мне не разрешается без помех играть в невинные игры художника, то я, несомненно, должен был воспользоваться плодами того более серьезного искусства, которому отдал не один год своей жизни. Без магии вынести этот мир было невозможно.
Я вспомнил китайские наставления, задержал на несколько минут дыхание и освободился от морока действительности. Затем я вежливо спросил у тюремщиков, не подождут ли они чуть-чуть, потому что мне надо влезть в поезд на моей картине и кое-что там посмотреть. Они, как обычно, рассмеялись, ибо считали меня умственно неполноценным.
И тогда я сделался маленьким и вошел в мою картину[120], сел в поезд и въехал на этом маленьком поезде в маленький черный туннель. Некоторое время еще было видно, как из круглого отверстия вылетали клочья дыма, потом дым рассеялся и испарился, а с ним и вся картина, и я вместе с ней.
А тюремщики остались стоять в большой растерянности.
Перевод И. Городинского
Наконец смилостивился Господь и положил предел земному дню, на исходе которого разразилась кровавая мировая война, и послал Бог великий потоп на Землю.
Милосердные потоки вод смыли с лика стареющей планеты все, что было ее бесчестьем, — обагренные кровью снега в полях и дыбом вставшие на горных склонах орудийные стволы, разлагающиеся трупы и тех, кто плакал над убитыми, возмущенных войной и жаждущих крови, обнищавших, оголодавших и потерявших рассудок.
Благосклонно взирали голубые небеса на влажно блестевший шар.
Меж тем европейская техника до самой последней минуты великолепно выдерживала все испытания. В течение нескольких недель Европа упорно и обдуманно противостояла натиску медленно поднимавшихся вод. В первое время — при помощи огромных дамб, на строительстве которых днем и ночью трудились миллионы военнопленных, затем — благодаря постройке особых высоких сооружений, которые росли с неимоверной быстротой и вначале имели вид гигантских террас, со временем же превратились в высокие башни. На этих башнях героизм человеческий с трогательным упорством выказывал себя до последнего часа. Когда же и Европа, и весь мир покрылись водой и исчезли с лица Земли, на последних возвышавшихся над волнами башнях средь влажных сумерек гибнущего мира по-прежнему ярко и бестрепетно горели прожектора и все так же летели с башен орудийные снаряды, вычерчивая в небе изящные кривые. До конца света оставалось всего два дня, когда вожди Центральных держав решились световыми сигналами сообщить врагам о своей готовности к заключению мира. Но враги потребовали незамедлительной сдачи последних укрепленных башен, а на такое не могли пойти даже самые ревностные поборники мира. И потому героически отстреливались до последнего часа.
Весь мир уже скрылся под водою. Единственный оставшийся в живых европеец в спасательном поясе плыл по воле волн и, несмотря на неудобства, старался записать все события последних дней мира, чтобы когда-нибудь человечество узнало, что именно родина этого человека на несколько часов пережила гибель своего последнего врага и, таким образом, навеки осталась обладательницей победных лавров.
Тут показалось вдали у серой линии горизонта что-то черное, огромное — громоздкий корабль, который медленно шел по направлению к обессилевшему пловцу. И европеец с радостью понял, что корабль этот — громадный ковчег, и, уже теряя сознание, увидел, что на палубе этого плавучего дома стоит величественный древний патриарх с развевающейся седой бородой. Гигантского роста негр подхватил пловца и поднял его на борт. Европеец был жив и вскоре пришел в себя. Патриарх ласково улыбнулся. Его труды увенчались успехом: он спас по одному представителю каждого вида живых существ Земли.