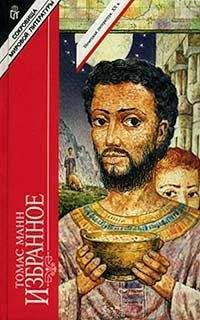Но покуда она длится, она будет, не унывая, заполнять свое время, и сразу же на совесть расскажет о том, что все уже знают, — что Иосиф сдержал слово и сначала представил фараону пятерых избранных братьев, а затем официально привел к прекрасному сыну Атона и своего отца Иакова, и патриарх вел себя при этом с большим достоинством, хотя и по мирским понятиям немного надменно. Подробности не замедлят последовать. Об этих аудиенциях Иосиф ходатайствовал перед владыкой благоухания лично, и примечательно то прекрасное знание египетских условий, которое обнаруживает предание своим выбором обозначающих направление слов. В землю Египетскую «спускались»; дети Израиля спустились на госенские пажити. Но, двигаясь в том же направлении дальше, ты уже «поднимался», то есть плыл вверх по реке в сторону Верхнего Египта: именно это, как совершенно правильно сказано, сделал Иосиф: он «поднялся» в Ахет-Атон, город горизонта в Заячьей округе, единственную столицу стран, чтобы известить Гора во дворце, что его, Иосифа, братья и дом его отца явились к нему, и навести Гора на мысль, что нет ничего умней, чем назначить этих опытных пастухов стражами государственного скота в земле Госен. Фараону эта осенившая его мысль доставила удовольствие, и когда пять братьев предстали перед ним, он ее высказал и назначил их собственными своего величества пастухами.
Произошло это немногими днями позднее прибытия в Египет Израиля, как только фараон снова проехал в любимый свой Он и заблистал там на горизонте своего дворца, как блистал, когда к нему впервые привели Иосифа, чтобы тот растолковал его сны. Приезда этого дождались, щадя Иакова, чтобы избавить старика от слишком долгого путешествия к фараонову трону. Иаков находился в то время в доме Иосифа в Менфе, куда прибыл вместе с пятью отобранными для аудиенции сыновьями — двумя отпрысками Лии, Рувимом и Иудой, одним сыном Валлы: Неффалимом, одним — Зелфы: Гаддиилом, и вторым сыном Рахили Бенони-Вениамином. Сопровождая отца, они поднялись в город Закутанного на западном берегу и в дом Возвысившегося; здесь отца разбойника приветствовала девушка Аснат, и к нему привели его египетских внуков, чтобы он познакомился с ними и благословил их. Старик был очень взволнован.
— Господь подавляюще любезен, — сказал он. — Он дал мне увидеть лицо твое, сын мой, на что я и то никак не надеялся, а теперь он мне еще и семя твое дозволяет увидеть.
И он спросил старшего мальчика, как его зовут.
— Манассия, — отвечал тот.
— А как зовут тебя? — спросил он затем меньшего.
— Ефрем, — прозвучало в ответ.
— Ефрем и Манассия, — повторил старик, назвав сперва то имя, которое услыхал после. Затем он привлек Ефрема к правому своему колену, а Манассию к левому, приласкал их и поправил еврейский их выговор.
— Сколько раз я вам уже говорил, Манассия и Ефрем, — побранил их Иосиф, — чтобы вы произносили так, а не этак.
— Ефрем и Манассия, — сказал старик, — не виноваты. Ты сам стал немного косноязычен, господин сын мой. Хотите ли вы стать множеством народов во имя ваших отцов? — спросил он обоих мальчиков.
— Очень хотим, — ответил Ефрем, заметивший, что ему отдано предпочтенье, и уже тогда Иаков благословил их предварительно.
Сразу после этого сообщили, что фараон прибыл в Он, город Ра-Горахте, и Тогда Иосиф с пятью избранниками поехал, а Иакова понесли к нему вниз Если спросят, почему его, почтенного старца, приняли во вторую очередь, а братьев, как то известно, в первую, мы отметим: ради движенья по восходящей линии. Ведь в торжественном строю самое лучшее редко бывает вначале, сперва обычно идет менее значительное, затем то, что получше, а уж потом ковыляет самое достославное, вызывая оглушительные овации и восторги. Спор о том, кому идти первым, стар, но как раз с точки зрения церемониала он всегда неразумен. Первым всегда должно идти меньшее, и честолюбию, домогающемуся этого права, следовало бы с улыбкой потворствовать.
К тому же прием братьев связан был с конкретным, так сказать, деловым вопросом, который нужно было сначала уладить. Краткая же беседа Иакова с юным кумиром представляла собой лишь прекрасную формальность, так что и фараон не знал, с чего начать разговор, и не придумал ничего лучшего, чем спросить патриарха о его возрасте. Беседа с сыновьями отличалась большей продуманностью, но зато, как все почти беседы царя, была в административной своей части заранее подготовлена.
Лебезящие камергеры ввели пятерых братьев в Палату Совета и Опроса, где под украшенным лентами балдахином, окруженный, как статистами, служащими дворца, с жезлом, хлыстом и золотым знаком жизни в руке, сидел молодой фараон. Хотя его резной, по-старинному неудобный престол принадлежал к мебели архаической, Эхнатон ухитрялся сидеть на нем в более чем небрежной позе, поскольку иератическая чинность не вязалась с его идеей любвеобильной естественности бога. Верховные Уста его. Владыка Хлеба, Джепнутеэфонех. Кормилец, стоял рядом, у правого переднего столба затейливого этого сооруженья, и следил за тем, чтобы протекавшая при посредничестве толмача беседа шла так, как было намечено.
Установив связь между своими лбами и каменным полом палаты, переселенцы пробормотали не слишком растянутую похвальную речь, которую разучил с ними их брат, составив ее так, чтобы она была достаточно придворной и в то же время не оскорбляла их убеждений. Впрочем, будучи чистым витийством, эта речь не сподобилась даже перевода: фараон сразу же поблагодарил их ломким мальчишеским голосом и прибавил, что Его Величество искренне рад видеть перед своим престолом достопочтенную родню своего Истинного Дарителя Тенистой Сени и Дяди. «Какое ваше занятие?» — спросил он затем.
Отвечал Иуда, — отвечал, что они пастухи скота, кем всегда были также их отцы, и по этой причине знают толк во всем, что касается скотоводства. В эту страну они явились потому, что у них не стало пастбищ для их скота, ибо в земле Ханаанской свирепствовала дороговизна, и если им дозволено высказать просьбу перед лицом фараона, то они просят разрешить им остаться в Госене, где стоят сейчас их шатры.
На живом лице Эхнатона невольно появилась гримаска, когда переводчик произнес: «пастухи скота». Затем фараон обратился к Иосифу с заранее составленной речью:
— К тебе пришли твои родственники. Страны открыты тебе, им они тоже открыты. Пусть они живут на лучшем месте, пусть они живут в земле Госен. Моему величеству это будет весьма приятно.
И когда Иосиф взглядом напомнил ему, прибавил:
— Кроме того, мой отец в небе внушает Моему величеству одну мысль, которую сердце фараона находит прекрасной: ты, друг мой, лучше, чем кто бы то ни было, знаешь своих братьев и их способности. Поставь же их, по их способностям, над моими стадами там внизу, поставь самых способных из них смотрителями царского скота! Мое величество весьма дружески и любезно приказывает тебе выписать им оклад. Мне было очень приятно.
А потом настала очередь Иакова.
Он вошел торжественно и с большим трудом, нарочно преувеличивая преклонность своих лет, чтобы уравновесить покоряющим достоинством старости Нимродову величественность и нисколько не унизить перед нею своего бога. При этом Иаков отлично знал, что придворный его сын не совсем спокоен за его поведенье и опасается, что он будет держаться с фараоном надменно, а чего доброго, и заведет речь о козле Биндиди, о чем Иосиф даже по-детски упомянул в предварительных своих наставленьях. Иаков не собирался касаться этого вопроса, но ронять свое достоинство он не был намерен и защищался подавляющим своим возрастом. Кстати сказать, его не только избавили от каких бы то ни было челобитий, не ожидая от него необходимой для этого подвижности, но и решили сделать аудиенцию как можно более краткой, чтобы старику не пришлось долго стоять.
Несколько мгновений они разглядывали друг друга молча — изнеженный сын позднего времени, боговидец, который с любопытством приподнялся в своей золоченой часовенке, нарушив свою сверхудобную позу, — и сын Ицхака, отец двенадцати; они глядели друг на друга, связанные одним и тем же часом и разделенные веками, исстари венценосный мальчик, болезненно пекущийся о том, чтобы выжать из тысячелетий богословской учености розовое масло нежно-мечтательной религии любви, и многоопытный старец, чья стоянка во времени была у исходной точки необозримо далеко идущего становленья. Фараон вскоре почувствовал себя неловко. Он не привык сразу заговаривать с тем, кто стоял перед ним, и ждал предусмотренного этикетом приветственного гимна, которым ему представлялись. К тому же, как мы отлично знаем, Иаков не вовсе пренебрег этой формальностью: известно, что войдя, а также перед своим уходом он «благословил» фараона. Это нужно понимать в самом буквальном смысле: обязательное славословие патриарх заменил формулой благословенья. Он поднял не обе руки, как перед богом, а только правую и простер ее, почтенно дрожавшую, к фараону, словно бы по-отечески осеняя ею издали голову юноши.