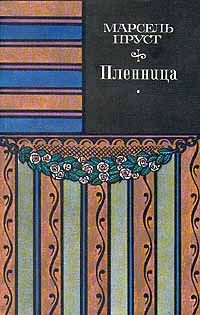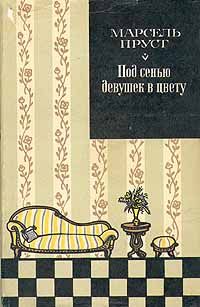Вскоре ночи укоротились, и еще до того, как наступало утро, я видел сквозь занавески, что белизна с каждым днем все прибавляется. Если я свыкся с мыслью, что Альбертина будет жить по-прежнему, если у меня, несмотря на ее отнекиванье, создалось впечатление, что она хочет оставаться в плену, то это лишь потому, что каждый день я был уверен, что с завтрашнего дня я начну работать, буду вставать с постели, выходить из дому, готовиться к отъезду в имение, которое мы приобретем и где Альбертина будет чувствовать себя свободнее, не испытывая тревоги за меня, сможет по своему выбору жить в деревне или на море, ездить на пароходе или охотиться. Но на другой день, когда миновало время чередования моей любви к Альбертине с ненавистью к ней (если это для нас уже настоящий день, то мы оба из выгоды, из вежливости, из жалости ткем завесу лжи, которую принимаем за реальность), бывало и так, что один из часов, из которых этот день складывался, именно из тех, которые мне как будто запомнились, вдруг задним числом снимал с себя маску и представал передо мной совершенно иным. Если раньше он казался мне благожелательным, то теперь он являл собой до сих пор затаенное и вдруг обозначившееся желание, отгораживавшее от меня еще одну область в душе Альбертины, меж тем как я был уверен, что эта область срослась с моей душой. Пример: когда Андре в июле уехала из Бальбека, Альбертина не сказала мне, что должна скоро с ней встретиться. Я же думал, что она увидится с ней еще раньше, чем предполагает, так как в Бальбеке мне было очень тоскливо, и вот Альбертина ночью 14 сентября решила пойти на жертву: дольше в Бальбеке не задерживаться и ехать в Париж. Когда настало 15 сентября, я заговорил с ней об Андре и спросил: «Она вам обрадовалась?» Г-жа Бонтан что-то привезла Альбертине; я видел ее мельком и сказал, что Альбертина отправилась к Андре: «Они хотели поехать в деревню». – «Да, Альбертина чувствует себя в деревне как дома, – ответила г-жа Бонтан. – Три года назад она ежедневно ездила в Бют-Шомон». Когда г-жа Бонтан назвала эту местность, где Альбертина, по ее словам, никогда не бывала, у меня захватило дыхание. Реальность – самый ловкий из наших врагов. Она атакует те стороны нашей души, где мы ее не ждали и где мы не приготовились к обороне. Значит, Альбертина или солгала тетке, сказав, что каждый день ездит в Бют-Шомон, или мне – сказав, что не знает, где это. «Как хорошо, – добавила г-жа Бонтан, – что бедная Андре скоро уедет в оздоровляющую, настоящую деревню! Ей это необходимо, она так плохо выглядит! Этим летом ей не удалось подышать воздухом. Подумайте: она уехала из Бальбека в конце июля, надеясь вернуться туда в сентябре, но ее брат сломал себе ногу, и теперь она уже туда не вернется». Итак, Альбертина не дождалась Андре в Бальбеке и ничего мне об этом не сказала! Тем любезнее было с ее стороны предложить мне вернуться в Париж. Вот только… «Да, я припоминаю, что Альбертина говорила мне об этом… (Альбертина ничего мне об этом не говорила.) Когда же это случилось? У меня в голове все перепуталось». – «Уж раз это должно было случиться, то случилось вовремя, так как через день после этого была назначена сдача виллы внаймы и бабушка Андре должна была бы заплатить за меня неустойку. Брат Андре сломал себе ногу четырнадцатого сентября, она телеграфировала Альбертине пятнадцатого утром, и у Альбертины было время предупредить агентство. Еще один день – и пришлось бы уплатить за виллу по пятнадцатое октября». Таким образом, когда Альбертина, изменив решение, сказала мне: «Мы уезжаем вечером», – она уже представляла себе неизвестное мне помещение бабушки Андре, где, как только мы вернемся в Париж, она встретится с подругой, которую она, не говоря мне ни слова, поджидала в Бальбеке. Ласковые слова, в которых она выражала желание вернуться со мной после упорного отказа ехать в Париж – отказа, который я слышал от нее еще так недавно, я объяснял ее мягкосердечием. На самом деле они отражали перемену обстоятельств, о которой мы обычно бываем не осведомлены и которая является тайной причиной изменения в поведении девушек, не любящих нас. Девушка решительно отказывается прийти к нам на свидание завтра, потому что она устала, потому что дед ждет ее завтра к обеду. «Приходите после обеда», – настаиваю я. «Он меня скоро не отпустит. Пожалуй, еще пойдет провожать». Просто-напросто у нее свидание с другим, с тем, кто ей нравится. Неожиданно у этого другого оказываются какие-то дела. И она приходит ко мне, выражает сожаление, что огорчила меня, и сообщает, что дедушка пошел погулять один, она свободна и пришла ко мне. Я должен был бы разглядеть эти фразы в том, что мне говорила Альбертина в день моего отъезда из Бальбека. Впрочем, пожалуй, чтобы понять язык Альбертины, мне не стоило стараться узнавать в нем подобные фразы – достаточно было вспомнить две черты ее характера.
На память мне сейчас же пришли две черты характера Альбертины: одна черта меня утешала, другая расстраивала. Ведь в нашей памяти есть все: это что-то вроде аптеки или химической лаборатории, откуда достают то успокоительное средство, то смертельный яд. Первой ее чертой, утешительной, была привычка угождать сразу нескольким, одно и то же действие использовать для разных целей. Это было в ее характере444: возвращаясь в Париж (поскольку Андре не вернулась, ей уже нельзя было оставаться в Бальбеке: Андре должна была быть уверена, что та не может без нее жить), она могла растрогать этим двух человек, которых она искренне любила: меня – доказывая этим, что она уезжает, чтобы не оставлять меня одного, чтобы я не мучился, из чувства привязанности ко мне; Андре – давая ей понять, что раз она не приедет в Бальбек, то и она, Альбертина, не останется здесь ни секунды, что она задержалась здесь, только чтобы увидеться с ней, и что она немедленно к ней примчится. Таким образом, не было ничего неестественного в том, что, благодаря столь поспешному отъезду со мной, которому предшествовали, с одной стороны, моя тоска, мое желание вернуться в Париж, а с другой – телеграмма от подруги, Андре, не имевшая понятия о моей тоске, и я, не имевший понятия об ее телеграмме, могли думать, что единственной причиной отъезда Альбертины – отъезда, последовавшего в результате внезапного, потребовавшего всего лишь несколько часов, перерешения, – является или та, которую знала только Андре, или та, которую знал только я. И еще я мог думать, что основной целью Альбертины было ехать со мной, но что она хотела также воспользоваться случаем доказать на деле свою благодарность Андре.
Но, к сожалению, я почти тотчас же вспомнил другую черту характера Альбертины: ту живость, с какой она поддавалась неодолимому искушению наслаждения. Я вспомнил, с каким нетерпением ждала она, решив уехать, часа отхода поезда, как она тормошила пытавшегося нас удержать директора гостиницы, из-за которого мы рисковали опоздать на омнибус, как она в пригородном поезде, когда маркиз де Говожо убеждал нас отложить отъезд на недельку, заговорщицки встряхивала плечами, чтобы подбодрить меня, и как я был этим тронут. Да, то, что сейчас представлялось ее внутреннему зрению, то, из-за чего она так торопилась с отъездом, то, что ей не терпелось вновь обрести, – это была всего-навсего нежилая комната, где я был однажды, комната, принадлежавшая бабушке Андре, роскошное помещение, находившееся под присмотром старого лакея, в разгаре дня пустое, молчаливое, где солнце, казалось, набросило чехол на диван и на кресла и где Альбертина и Андре просили стража, почтительного, быть может, наивного, а быть может, их сообщника, чтобы он позволил им здесь отдохнуть. Эта комната была у меня теперь все время перед глазами пустая, с кроватью или с диваном, я видел милую жертву обмана, а быть может, сообщницу, которая каждый раз, когда было ясно, что Альбертина спешит и чем-то озабочена, шла в другую комнату звать подругу, которая, конечно, приходила раньше, потому что была свободнее. Прежде я никогда не думал об этой комнате, но теперь она приобрела для меня какую-то пугающую красоту. Неизвестное в жизни живых существ – это то же, что неизвестное в природе: каждое научное открытие заставляет его отступать, но не уничтожает. Ревнивец приводит в отчаяние любимую женщину, лишая ее множества небольших удовольствий, но те удовольствия, которые составляют основу ее жизни в такие моменты, когда она проявляет особую проницательность и когда третье лицо дает ей наиболее разумные наставления, она прячет там, где ревнивцу никогда не придет в голову их отыскивать. Наконец Андре собралась уезжать. Но я опасался, что Альбертина станет меня презирать, потому что ей и Андре удалось меня одурачить. Не сегодня завтра я намеревался ей об этом сказать. Быть может, я насиловал себя, готовясь говорить с полной откровенностью, дать ей понять, что мне известно все то, что она от меня скрывает. Но я откладывал разговор, во-первых, потому, что после приезда ко мне тетки Альбертина могла догадаться, откуда у меня эти сведения, источник иссякнет, и ей некого будет бояться. А еще потому, что я не хотел рисковать до тех пор, пока у меня не будет полной уверенности, что Альбертина останется жить у меня, сколько я захочу, я боялся так разозлить Альбертину, что она уйдет от меня. Впрочем, когда я заводил об этом речь, доискивался до истины, предугадывал будущее на основании ее слов, – а она неизменно одобряла мои планы, говорила о том, как ей нравится такая жизнь, как мало стесняет ее заточение, – я не сомневался, что она всегда будет со мной. Мне уединение наскучило. Я чувствовал, что жизнь, мир, которыми я так и не успел насладиться, ускользнули от меня, что я променял их на женщину, в которой для меня нет уже ничего нового. Я не мог даже поехать в Венецию, где я лежал бы, истерзанный мыслью, что за Альбертиной ухаживают гондольер, слуги в гостинице, венецианки. Если же я рассуждал, исходя из другой гипотезы, основывавшейся не на словах Альбертины, а на ее молчании, на ее взглядах, румянце, капризах, даже на вспышках гнева, насчет которых мне легко было ее убедить, что они беспричинны, и которые я старался не замечать, то приходил к выводу, что для нее такая жизнь невыносима, что она лишена всего, что ей мило, и что наша разлука неизбежна. Единственно, чего бы мне хотелось, – это самому выбрать момент, такой момент, когда мне это было бы не так тяжело, и в такое время года, когда она не могла бы поехать в места, где она, по моим представлениям, предавалась разврату: ни в Амстердам, ни к Андре, ни к мадмуазель Вентейль, с которой она, впрочем, свела знакомство позднее. Но с этой стороны я пока был спокоен, мне это было безразлично. Чтобы это обдумать, надо было подождать, пока пройдет легкий рецидив болезни, вызванный открытием причин, по которым Альбертина то не хотела ехать, то, несколько часов спустя, решала ехать немедленно; надо было дать время симптомам, постепенно терявшим свою силу, исчезнуть, если только я не узнаю чего-нибудь нового, более жгучего, такого, из-за чего стала бы еще болезненней, еще тяжелее разлука, которую я теперь считал неминуемой, но отнюдь не срочной, «без надрыва». Я был мастером выбирать момент: если она захочет уйти до моего решения и объявит, что с нее довольно такой жизни, у меня еще будет время обдумать свои доводы, предоставить ей больше свободы, обещать ей в будущем какое-нибудь огромное удовольствие, которое ее прельстит, удостовериться, не сжалится ли она надо мной, если я ей скажу, как мне тяжело. Тут я был спокоен, хотя мои рассуждения не отличались строгой логичностью. Исходя из гипотезы, не принимавшей в расчет все, что она говорила и объявляла, я предполагал, что, когда речь зайдет об ее отъезде, она заранее выложит все свои доводы, предоставив мне возможность их разбить и оказаться победителем.