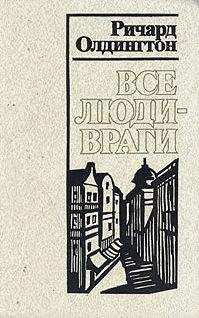— Право, я не могу. Я…
Он видел, что ей очень хочется пойти с ним, и ответил:
— Да ну, полно тебе, неужели ты откажешься быть моей гостьей в первый день нашей встречи?
И потом нельзя же разочаровывать Баббо — он сейчас совершает в твою честь всяческие немыслимые подвиги. А кроме того, это день моего рождения.
— О Тони, какой ты лгунишка! Я отлично знаю, что день твоего рождения в августе.
— Ну что же, — сказал Тони, страшно довольный, что она не забыла этого, — а твой в декабре. Раздели разницу пополам, и получится апрель. Это будет завтрак в честь нашего общего дня рождения. Идем.
Они пошли рощей земляничных деревьев к тому месту около тропинки, где перед их встречей сидела Кэти; они шли, держась за руки, как будто каждый боялся, что другого могут похитить; Тони нагнулся, чтобы снять колючки, приставшие к юбке Кэти, и заметил, что материя была старая и простенькая, хотя юбка сшита почти элегантно. А в полотняном мешочке с ее завтраком оказалось только два апельсина и кусок хлеба. Тони отвернулся, стараясь подавить подступивший к горлу комок, и сорвал с земляничного дерева несколько прошлогодних красных ягод, до сих пор висевших на ветвях.
— Смотри-ка, — сказал он, делая вид, что откашливается. — Какие красивые! Положи их в свой платочек и сохрани на память о нашей сегодняшней встрече.
— Он весь мокрый от слез, — сказала Кэти, глядя на скомканный маленький платочек.
— Возьми мой, — сказал Тони, вынимая чистый платок из верхнего кармана.
— Какой красивый платок и какой хороший материал у вас в Англии. Ты стал настоящим денди.
— Денди? Вот это мне нравится! Я покупал их у Уолворта всего по шести пенсов за штуку.
— Но они много лучше, чем у нас в Австрии.
— Бедная Австрия, — сказал Тони. — Раздавлена местью. Но ничего, дорогая, я знаю одну австриячку, которая больше не будет раздавлена. Пойдем-ка скорей, а то Баббо разгневается.
Когда они проходили под высокими деревьями мимо цветущей зеленой лужайки, Тони сказал:
— Посмотри, Кэти, белые фиалки еще цветут.
Когда Тони открыл перед Кэти калитку во двор, он увидел, как мать Филомены торопливо проковыляла через двор в кухню, — очевидно, она поджидала их.
Тотчас же поднялся шум, затараторили возбужденные голоса, и хотя Тони ни слова не понял, он обо всем догадался. Старуха рассказала, что они вернулись вместе. Как же итальянцы любят драматические ситуации, в особенности такие, от которых можно расчувствоваться.
Кэти прошла наверх, в свою комнату, а Тони задержался во дворе, чтобы убедиться, приготовлено ли все как следует. Провожая взглядом ее статную фигуру, двигавшуюся с бессознательной грацией, он вспомнил вызубренную в школе цитату из Вергилия о поступи богинь. Чем провинились грация и нежность, что мы изгнали их из нашего обихода? Варвары! Он улыбнулся, перехватив взгляд Кэти, которым она окинула его, исчезая за дверью. Если она так хороша в этих австрийских тряпках, какова она будет, если нарядить ее в какой-нибудь красивый костюм? В румынский? Нет, слишком криклив, бутафорщина, чешский тоже. В тирольский или шварцвальдский? Нет, они какие-то нескладные и уж чересчур просты в плохом смысле слова. В калабрийский? Да, пожалуй. Эти женщины в Тириоло до сих пор еще сохранили какую-то величавость, они не стыдятся своего тела. Господи, как я ненавижу эти неестественные фигуры!
Он заметил с некоторым беспокойством, что для них как будто не было приготовлено столика. Возле входа сидели четверо шумливых итальянцев, а рядом, за другим столиком, — чета немцев. У мужчины была квадратная лысая голова с тремя красными двойными складками на затылке, — одна из тех голов, которые Тони всегда считал угрозой для европейской цивилизации. Старуха вышла из кухни и внимательно, с беспокойством посмотрела на Тони. Тони невозмутимо кивнул и спросил:
— Где вы поставили наш столик?
— В саду, за изгородью. Я подумала, синьор, что вам там будет приятнее.
— Очень хорошо, — сказал Тони, облегченно вздохнув.
Они прошли в сад, и Тони увидел, что боги снова все чудесно устроили руками матушки Филомены.
Столик был украшен узором из цветочных лепестков, и около каждого прибора лежал букет цветов с карточкой, на которой было написано: Auguri della famiglia [172]. Старуха поставила особый сервиз из своего буфета, где хранила фарфор, и серебро, которое она всегда держала спрятанным под кроватью и никогда сама не употребляла. Тони был растроган.
— Прекрасно, — сказал он. — Вы сделали все так, как только можно было желать, синьора, и лучше, чем я ожидал. Я не знаю, как и отблагодарить вас.
Он заглянул за тростниковую изгородь, не идет ли Кэти, и, понизив голос, спросил:
— Сколько платит вам синьорина?
— Сто пятьдесят лир за десять дней, синьор, но мы не можем…
— Знаю, знаю, — прервал Тони. — Послушайте, эти деньги буду платить вам я. Понимаете? Вы скажете ей, что все уплачено, и денег с нее не берите.
Я теперь позабочусь о ней. Считайте нас обоих на полном пансионе, а если вы будете давать что-нибудь лишнее, я заплачу, конечно.
— Да, синьор.
Хотя старушка и проявляла великодушие, снижая цену для Кэти, она все же не могла не радоваться, что все обернулось для нее так выгодно. Кроме того, итальянцам присущи черты артистизма, они любят изобилие и предпочитают делать свое дело как следует.
— Ну, кажется, все, — сказал в раздумье Тони. — Нет, постойте минутку. А что вы подаете ей к утреннему завтраку?
— Черный кофе и хлеб, синьор.
— О черт!
Он вспомнил, как ненавидела Кэти пить по утрам черный кофе и как любила фрукты, мед и горячее молоко.
— Наверно, сейчас нельзя достать настоящего меду? — спросил он.
— Кажется, есть у почтальона, только очень дорогой.
— Достаньте. Если можно, в сотах. И вы должны покупать для нее венские булочки, масло, мед, фрукты и побольше молока. И чтобы оно было горячее.
Купите нам килограмм настоящего кофе, чтобы не пить эту лакричную бурду. Вот триста лир. Это покроет ее счет по сегодняшний день, а остальное пойдет на то, что я просил вас покупать для нас к завтраку. Постарайтесь достать все это. Рассчитываться вы будете со мной после. Ш-ш! Она идет!
— Вы похожи на двух заговорщиков, — сказала, выходя из-за изгороди, Кэти. — Я еще издали услышала ваш страшно трагический шепот.
— Я думаю, ты догадалась, — сказал Тони, — что мое имя Борджиа, а это моя дочь Лукреция, так что сама понимаешь, что тебя ждет.
— Можно подавать, синьорина? — спросила старуха.
— Сию минуту, — сказал Тони, — subito [173], — и по-английски добавил Кэти: — Я сбегаю наверх умыться, но если бы я ей сказал «через две минуты», она растянула бы их еще на полчаса.
Когда он вернулся, Кэти стояла у стола, разматывая бесконечной длины нитки, которыми были связаны букетики цветов.
— Как они прелестно украсили стол! — воскликнула она.
— Отчасти. Но самое убранство стола целиком дело рук старухи. Она душка. Если ты меня отвергнешь, Кэти, я убегу с ней.
— Тогда Баббо подстрелит тебя из-за дерева. Тут ведь рядом Сицилия, и у них до сих пор существует вендетта. Бедные цветы, как их ужасно туго стянули.
Они не могут дышать, у меня от этого такое чувство, как будто у меня вокруг груди обвилась громадная змея.
— Это дух неоклассицизма, — пояснил Тони. — Все точно, крепко и аккуратно, и никаких глупостей насчет природы.
— Ну, вот, — сказала Кэти, встряхивая освобожденные цветы. — Теперь они чувствуют себя лучше.
Тебе нравятся эти маленькие дикие цикламены, Тони?
— Очень. Один английский поэт говорит, что они похожи на уши борзой. А по-моему, они похожи на девушек, стремительно бегущих против ветра, с опущенными головами.
Тони отошел назад и выглянул во двор, не идет ли кто-нибудь, а затем вернулся под густую зеленую ограду. Кэти усердно распутывала нитки, высвобождая цветы, трогая их кончиками своих нежных пальцев, как будто цветы и в самом деле были живые.
Он заметил, что она переменила платье и надела маленькую ниточку кораллов. Расправляя цветы, она тихонько напевала, как бессознательно делают люди, когда они счастливы. Но как же она исстрадалась, какие муки пришлось ей вынести, если даже в счастливом настроении лицо ее сохраняло скорбное выражение. Тони подумал, что и он по временам бывает довольно мрачен. А как мало было им нужно от своих ближних — только чтобы их оставили вдвоем в покое.
— Кэти!
Он подошел к ней и взял ее за руки. Она вопросительно подняла на него глаза.
— Ты думаешь о том, Кэти, что мы одни здесь с тобой на Эа и солнце сияет?
— Я почти ни о чем другом и не думала, пока была наверху, и сейчас, когда распутывала эти цветы.
— И что нам нет никакой надобности расставаться?
Она не ответила, и он увидел, как в ее глазах мелькнул тот же мучительный страх, который он заметил уже раньше, — страх человека, так жестоко израненного жизнью, что он не смеет мечтать о счастье. Тони нагнулся и поцеловал ее, потому что ему захотелось ее поцеловать. Кроме того у него не хватало слов, чтобы произнести те обещания, которые ему хотелось ей дать. «Влюбленный — самый целомудренный из мужчин, — подумал Тони, — ему нужна только одна женщина». Они оторвались друг от друга, услыхав прихрамывающие шаги и стук деревянных сандалий Маммы на посыпанной щебнем дорожке, и поспешно сели за столик, улыбаясь друг другу.