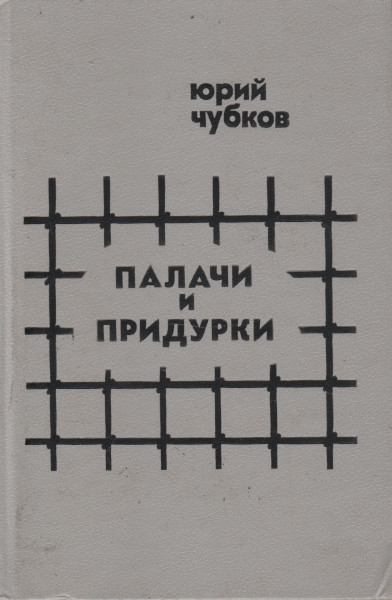Феоктистова.
— У аппарата Феоктистов, — сию же минуту услышал ответ.
— Здравствуй, дорогой, — сказал Егор Афанасьевич медленно, четко, чтобы сразу дать понять, настроить разговор на значительный лад. И почувствовал, как насторожился прокурор — вздрогнул, должно быть, там, в кабинете прокурорском, крепче зажал в кулаке трубку. И хорошо.
— Егор Афанасьевич? — голос Ивана Семеновича сразу утончился, засипел. И замер прокурор, вслушиваясь в трубку.
Помедлил и Егор Афанасьевич, усмехаясь, выдерживая. Пролетел меж ними по проводам легкий атмосферный треск.
— Ну, чего молчишь! Чего зажался-то!
— Слушаю, Егор Афанасьевич. Весь внимание.
— То-то. Про дела про твои не спрашиваю, все и так знаю. Сам понимаешь, не блестящи они, дела твои прокурорские. А? Что скажешь?
— Да уж... Только...
— Ладно, не о том сейчас речь. Есть у меня к тебе разговор. Не телефонный.
— Как прикажете, Егор Афанасьевич. Я всегда.
— Вот что, ты обедал уже? Нет? Ого‑го, заработались мы с тобой, однако, времечко! Заезжай-ка минут через двадцать ко мне.
— В обком?
— Зачем в обком, домой заезжай.
— Слушаюсь!
— Ну давай, — нажал пальцем на рычажок Егор Афанасьевич, отключил прокурора, и тут же набрал другой номер — свой, домашний.
— Ал-ле! — услышал он голос жены и поморщился: всегда раздражало его это ее великосветское «алле».
— Это я. Слушай, Алена, через полчаса накрой-ка нам в моем кабинете. На два кювер... кувер... тьфу! На двоих накрой. И чтобы никого посторонних.
— Поняла, поняла, Егор. Никого и нет. Один только Миша. Михаил Иваныч.
— Ну, Михаил Иваныч, ладно. Только держи его на кухне.
Положил трубку и Софье Семеновне скомандовал:
— Машину к подъезду.
— Машина у подъезда, Егор Афанасьевич.
— Хорошо, — встал, потянулся, разминая члены, и словно дернуло его что-то — оглянулся. Ей-богу, ироническое что-то застыло во взоре Генерального. И, чувствуя спиной этот иронический взгляд, пошел Егор Афанасьевич из кабинета.
Да, стояла машина у подъезда, однако, не было в ней шофера Евсея Митрофановича. В гневе огляделся Егор Афанасьевич и увидел его сквозь голые ветви деревьев в сквере, и моментально гнев улетучился и сменился веселым удивлением: Евсей Митрофанович, заложив руки за спину, важно прохаживался вокруг гранитного пьедестала, рассматривал, задирал голову, словно примеривая. Понаблюдал за ним Егор Афанасьевич, поусмехался. Был Евсей Митрофанович личностью не совсем заурядной, вернее, стал таковой с прошлого года, когда город Благов посетил Генеральный секретарь. Понятно, что такие визиты для местных руководящих товарищей нож острый. Уж очень дотошен и беспокоен. Более того — непредсказуем. Никакого для него протокола, никакой программы. Особенно нервировала привычка Генерального беседовать с народом. Остановит машину среди улицы, вылезет, подойдет к толпе и начинает вопросы задавать — интересоваться. Поди тут уследи за всеми, мало ли кто чего ляпнет. Но приноровились: стали возить в одной из машин сопровождения парочку бойких райкомовских дамочек и, чуть где остановка, выпускали их в толпу таким образом, чтобы Генеральный никак их миновать не мог. И уж дамочки на все его вопросы отвечали как надо, ловко забивая всякого правдолюбца, если таковой объявлялся. Но не доглядели однажды — откуда-то вывернулся Евсей Митрофанович, стал монументом, солидный, вальяжный, в добротном костюме и в галстуке. Никто, естественно, от него, как от шофера чуть ли не первого лица в области, не ожидал ничего такого опасного, поэтому и не побереглись, не успели дамочек выпустить.
Наткнулся Генеральный взглядом прямо на Евсея Митрофановича и задал обычный вопрос: «Ну как?», задаваемый для завязки разговора. И тот вдруг понес, глядя почему-то в небо, поверх голов:
— Да что как! Раньше при Сталине сажали, ежели кто опаздывал на работу, так и водка дешевая была и свободно. И дисциплина была, и порядок. А теперь очень разбаловался народ.
Генеральный как-то странно посмотрел на него.
— М-мда, — сказал, сел в машину и уехал.
С тех пор заважничал Евсей Митрофанович, раз говаривал сквозь зубы, не глядя на собеседника, и казалось, что живет он среди людей так уж, из снисхождения, и знает что-то такое, чего не дано знать никому из смертных. Смотрели на него люди с уважением, и даже сам Егор Афанасьевич чувствовал себя в его присутствии неловко.
— Евсей Митрофанович! — крикнул он, — Ты чего там, не себе ли место присматриваешь?
Евсей Митрофанович неспешно обернулся и неспешно же пошел к машине.
— Хороший камень, — буркнул он, усаживаясь на водительское место, и взгляд его, затуманенный какой-то значительной мыслью, направлен был черт знает в какую высь — поверх домов куда-то.
Да, камень действительно был хорош, особенной красоты камень, привезенный в свое время из дальних мест. Может быть, поэтому его не снесли, оставили, намереваясь использовать, если поступит указание об увековечении какого-нибудь лица, но пока кандидатуры подходящей не находилось. Одно время хотели водрузить на пьедестал бюст Брежнева, но пока собирались, пока утверждали проект, тот помер. И хорошо, что промешкали, потому что оказался он вовсе недостойным увековечения. А то пришлось бы опять снимать и увозить на городскую свалку. Нервировать народ. В настоящий момент явилась мысль использовать постамент для памятника жертвам сталинизма, и предложено уже было несколько проектов. Какой-то сумасшедший предложил даже такой: выкопать статую Сталина на свалке и поставить обратно, только вверх ногами. Дескать, в этом заключен будет глубокий смысл: революция, дескать, у нас, переворот. Проект, конечно, дурацкий, но кое-кого из руководства он привлек, во-первых, своей дешевизной — ничего не надо ни отливать, ни высекать, а во-вторых, удобством. Всегда можно быстро перевернуть с головы на ноги. И обратно.
Надо сказать, ко всем этим проектам и поползновениям занять пьедестал Егор Афанасьевич относился с какой-то подспудной ревностью. Он и сам себе не мог объяснить эту ревность, но... ревновал, не имея, конечно, ничего конкретного в мыслях. Одним словом, увидеть на нем чью-нибудь фигуру ему было бы больно.
* * *
Прокурор Иван Семенович Феоктистов уже ждал. Сидел на диване в кабинете Егора Афанасьевича и стеснялся. Всякий раз, как входила в кабинет Алена Николаевна, он с натугой и кряхтением приподнимал с дивана зад, обозначая почтительность. Сидеть в присутствии дамы Иван Семенович считал признаком дурного тона, тем более в присутствии такой дамы, как супруга секретаря обкома.