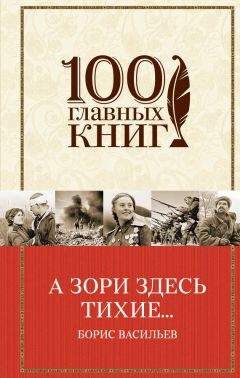– А если совсем не туда?
– Надо организовать. Понимаешь, фокус в том, чтобы въехать нам всем дружно в него до официального заселения. Ход реальный, если нас признают аварийщиками: Иваньшина – героиня войны, инвалид, ее в горкоме знают. Словом, задача требует решения, и я уже кое-что начал.
– Что ты начал?
– Я жалобу управдому подал, что у нас вся электропроводка в недопустимом состоянии. А копию – пожарникам: теперь они друг друга контролировать начнут изо всех сил. Так что, если комиссия придет, а меня не будет, ты должна сказать, что у нас все искрит, греется и вот-вот закоротит.
Комиссия пришла, когда дома оказалась одна Иваньшина. Это случалось редко, потому что Беляковы старались не оставлять дома больную с малым ребенком. Правда, Антонина Федоровна уже ловко управлялась с креслом, но вставать с него не могла, а только сваливалась в кровать, откуда без посторонней помощи не поднималась (ее каждое утро пересаживала в кресло Алла). Олег сделал полозки, чтобы коляска могла переезжать через порожек, но с ними дверь не закрывалась, и если Антонина Федоровна работала или отдыхала, их не ставили. А тут Алле срочно понадобилось в магазин, и она умчалась, прокричав, что уходит ненадолго и дверь запирать не будет. И почти сразу же появилась комиссия.
Собственно, это была еще не комиссия, а скорее совместная разведка: управдом да представитель от пожарной охраны. Управдома – пожилую, вечно озабоченную вдову – Антонина Федоровна знала давно, да и пожарник оказался человеком солидным и основательным.
– Печальный домик, – сказал он, оглядевшись. – Проводка времен царя Гороха: сигнал правильный. Без капитального ремонта тут никак не обойтись.
– Двенадцать квартир – это же двадцать семей, не меньше, – вздохнула управдом. – Ну составим мы акт об аварийном состоянии, а где их всех разместить? Тут не то что рай – тут горисполком за голову схватится. А выселять необходимо.
Они о чем-то спорили – Иваньшина не слушала. Тоскливый безнадежный ужас вдруг охватил ее: предстояло куда-то переезжать, предстояло расставание с Валериком, Аллой, Олегом, предстояло где-то как-то пристраивать Тонечку Маленькую. Капитальный ремонт, срочное выселение – куда придется, как придется, во времянки и, главное, в разные стороны – это была новая трагедия, которую требовалось освоить, осознать, понять, привыкнуть к ней. На все нужно было время – а может, она просто оттягивала этим неминуемое расставание? – и Антонина Федоровна сказала:
– Нас – в последнюю очередь, если можно. Очень прошу войти в мое положение.
– Доложу, – согласился пожарный представитель. – Войду с предложением начать выселение с той половины дома, там, кстати, и провода хуже. Договорились, товарищ Иваньшина, живите пока спокойно.
Может быть, так бы оно и случилось, может быть, и жили бы они спокойно, если бы не подоспел май с длинными вечерами, с черемухой и соловьями, с непонятной тревогой и беспокойной бессонницей. И дело заключалось совсем не в том, что у Тонечки Маленькой началась сессия, а в том, что было ей девятнадцать, все в ней вызрело и налилось и все-все, все вместе настойчиво требовало повторения первого опыта. С решительной поправкой: результат должен был стать иным, иначе Тонечка могла потерять не только покой и сон. Все в ней было настроено для прекрасной песни, но могло навеки рассыпаться и лопнуть. И струны и ноты: так ей казалось, и так оно и было на самом деле.
Но до того, когда и вправду все рассыпалось и лопнуло, еще оставалось время. Антонина Федоровна рассказала Олегу и Алле о комиссии и о своей просьбе; Олег ничем не выказал своего крайнего разочарования – именно эта просьба и сводила на нет все его далеко идущие планы, – но решил действовать куда более энергично и уж теперь ни под каким видом не посвящать женщин в свои намерения. А пока катал по субботам и воскресеньям Иваньшину и Валерика по улицам и за город, каждый раз вынося Антонину Федоровну на руках до машины и внося на второй этаж по возвращении домой. И каждый раз Антонина Федоровна очень смущалась, сердилась и ворчала:
– Ну к чему это, к чему? На руках таскаешь, будто…
– Будто мамочку, – улыбался Олег.
А больная, изувеченная войной, землей и осколками, парализованная женщина, обнимая рукой крепкую шею, заходилась от небывалого счастья и небывалой нежности всякий раз, когда он брал ее на руки, испытывая порой такое волнение, что приходилось сваливать все на духоту:
– Тащил ты, а задохнулась я. Это от жары. Душно сегодня.
– А может, ты и вправду моя мама, тетя Тоня? Ну, признайся, нам же обоим легче будет?
Странное дело: именно тогда Антонина Федоровна все чаще начала задумываться о своей юности. Не о ее героических деяниях, не о ее страданиях и жертвах, а о ее счастье, которое невозможно ни заменить героизмом, ни затмить жертвами. Как детство немыслимо без игры и удивлений, так юность немыслима без любви и надежд. Даже там – не на фронте вообще, а в окопах конкретно, где смерть закономерна, как закономерна жизнь вдали от этих окопов, – даже там неистово любили свою незакономерную, будто по лотерее выигранную жизнь и неистово надеялись, что выигрыш этот непременно падет на тебя. На это опирался знаменитый фронтовой оптимизм, без которого не только стране – командиру взвода не выиграть своего личного боя за три бревна через безымянный ручей.
Было у нее такое сражение за три бревна. Было. В марте, когда днем таяло, а ночью подмерзало, когда снега пропитались водой и люди проваливались до земли.
– Приказано нам на тот бережок, Тонька. Речонка, конечно, название одно, однако – препятствие. Твое направление атаки – отдельный куст, видишь? Перед рассветом по свистку…
– Можно пятьдесят метров левее взять, товарищ старший лейтенант? Там мостик в три бревна сохранился, снегом его запорошило. За полчаса до атаки троих с ручником вышлю, чтоб прикрыли во время переправы, а солдат – по бревнам.
– Мудришь, Антонина. Смысла не вижу.
– Снега больно рыхлые, ротный. По пояс проваливаешься.
– Бойцов простудить боишься?
– Застрять боюсь. Завязнут ребята в каше этой: снег и ноги не держит, и ступить не дает. Забуксуем в низинке, а ну как немец минами забросает?
При ручном пулемете пошел пожилой боец: как звали-то его? Господи, забыла, а только помнится почему-то, что погиб он возле тех трех бревен. При нем вторым номером – парнишка-ярославец и один автоматчик. Лихой парень: недавно из госпиталя во взвод прибыл и сам в прикрытие напросился.
– Разрешите, товарищ лейтенант, за второй медалью слазить?
Дерзко спросил, с огоньком. Глянула: глаза синие-синие. Ну, будто нарочно покрасил кто.
– Как фамилия, ефрейтор?
– Ефрейтор Середа! – улыбнулся вдруг и уточнил, как на танцах: – Василий.
Знала ли тогда, что то первая любовь ей улыбалась? Нет, она другое знала: по свистку перед рассветом. Но, наверно, почувствовала, потому что никогда так отчаянно не бежала в атаку, никогда так твердо не была уверена, что сегодня ее не тронет. Сегодня не тронет, не смеет тронуть: уж больно глазищи у парня синие. Будто нарочно покрасил, чтоб девчонок с ума сводить.
И зачем она тогда военврача упросила? Рос бы сейчас синеглазый Васильевич или Васильевна. И была бы ты, Тонька, и в самом деле и мамой и бабушкой, и не было бы счастливее тебя на всем белом свете, но разве молодость думает о собственной старости?
А рос бы сын или дочь. Васильевичи.
Книжка была почти закончена, когда совсем иные воспоминания вдруг обрушились на Иваньшину, лишили сна и покоя, причем те, далекие времена, времена ее юности, теперь все чаще сталкивались в ней с относительно недавним прошлым. Порою Антонина Федоровна отчетливо видела торжества в собственной школе – юбилейные и неюбилейные: пионерские сборы, треск барабанов, бойкое перечисление подвигов и героев – и пустые глаза детей, куда более занятых формой торжеств, чем их сущностью. Как-то она задержалась по своим директорским обязанностям, опоздала на встречу с ветераном и села не на сцене, как всегда, а в зале, сзади, за мальчишескими спинами. И почти сразу же расслышала:
– Во дает дед, – насмешливо прошептал красивый, чистенький, ухоженный мальчик. – Одной гранатой всех немцев перебил.
– Как в кино, – угодливо подхихикнул упитанный сосед.
Тогда она привычно одернула ребят, и они сразу же замолчали, но сейчас ей было не по себе от их послушного молчания. И дело заключалось не в том, что в тот раз и вправду ветеран оказался чрезмерно хвастливым; дело было в скрытом недоверии к подвигам вообще. «Почему? – спрашивала она себя и тут же отвечала: – А потому, что перекормили. Количество героической информации вдруг перешло в качество – только не в то, на которое мы рассчитывали. Исчезла искренность подвига, его порыв, боль, цена – и осталось голое перечисление. Остался реестр, длинный и нудный списочный перечень: кто, что, где и когда. Мы девальвируем собственную героическую историю: Герасим утопил собачку, и полтораста лет рыдают над нею потрясенные дети, а мы без конца толкуем о двадцати миллионах погибших – и встречаем отсутствующие глаза. А они должны гореть и страдать, иначе и за перо браться не стоит…»