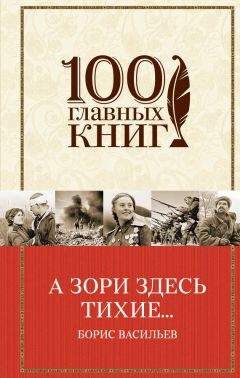Заверещал телефонный звонок, и Светлана бросилась в комнату. А старуха обиделась, но совсем уже не на то, на что прежде, не за свои Красные Жемчуга, а на то, что Светлана, дочь единственная, сказала про ее возраст да еще смеялась при этом нехорошо.
Светлана не возвращалась, время шло, и старуха помаленьку успокоилась. Слов из комнаты не доносилось, но тон слышался, и по этому тону она поняла, что дочь виновато оправдывается. Старуха допила чай, помыла посуду и со стола убрала, когда Светлана явилась расстроенной и озабоченной. Молча достала сигареты, прикурила, села напротив и стала глядеть сердито. Явно ждала, чтобы ее спросили, а она бы в ответ могла выкричаться; старуха это поняла сразу и спросила, хотя ей страсть как не хотелось ни о чем спрашивать:
– Сам звонил?
– Сам, сам! – с подготовленной обидой закричала дочь. – Он своего нового завсектором в ресторан еле-еле уговорил, а тут тебя нелегкая принесла! Ну что мне с тобой делать, что? И назад, в деревню вашу вонючую, не отправишь, и здесь никого из родственничков. Может, в Дом медика тебя, а? Там сегодня лекция…
– Лучше я, дочка, тут посижу, – вздохнула старуха: резануло ей слух «вонючей деревней». – Пугливы мы, стало быть, деревенские, куда уж нам на люди-то.
Но дочь не слышала, да и не слушала ее. Моложавое, ухоженное, упитанное кремами лицо ее словно осело, словно состарилось вдруг, на глазах, а всегда старательно приподнятые уголки губ горько опустились. Не сказав ни слова, прошла в комнату; там было тихо, и старуха, любопытствуя и чуточку пугаясь за дочь, заглянула через открытую дверь: Светлана сидела перед телефоном, опустив плечи и как-то безнадежно ссутулившись.
– Ты что это? – спросила старуха, входя. – Может, случилось что, беда какая?
– Вот, – Светлана потыкала в телефон. – По телефону через приятелей общаемся – красиво, да? Вот до чего родной сыночек довел.
– Да неужто?
– А из-за чего все началось, знаешь? – не слушая ее, продолжала дочь, и в голосе ее слышались слезы. – Поначалу, как в институте он начал учиться, все нормально шло, обыкновенно, как у людей: ну, приятели там, магнитофоны эти, диски, девочки знакомые, танцульки, в кафе когда сходят или дома пошумят. А потом вдруг – на тебе, задумался! Старых друзей всех – побоку, курить бросил, молчаливый стал, нервный какой-то. Раз спрашивает: вы, говорит, как, консервы или еще хоть что-то живое в вас осталось? Ну, отец, конечно, на смех все перевел, на шутку: мы, говорит, тебя, дурака, одеваем, обуваем, кормим да поим – что может быть живее? А сынок, представляешь, мам, берет из серванта вот этого набор хрустальный – шесть фужеров и шесть рюмок в фирменной коробке – да как шмякнет его об пол! Звон, брызги, осколки! Окаменели мы, а он и говорит: ну, говорит, докажите, что вы – люди. Ну, отец, конечно: сейчас, говорит, я тебе докажу. И ударил. Раза два, что ли, или три.
– Ударил, значит, – повторила старуха, словно уточняя.
– А наш отец как бы поступил, если бы Гриша или Шурка дорогое что-нибудь нарочно об пол треснули?
– А что у нас было-то, кроме совести?
– Ну, знаешь, это все демагогия, все в глаза этим тычут, вот и сын тоже. Ну и получил, чего заслуживал, так хоть прощения попроси, правда? А он ни словечка не сказал, только побелел весь, повернулся да и ушел. И полгода глаз не кажет: если и забежит на минутку, когда отца дома нет, схватит свои книги – и тут же за дверь. Даже со мной не говорит: «да», «нет» – вот и весь его разговор с матерью. Где живет – неизвестно, где спит – неизвестно, как учится – тоже неизвестно. Да что там: что ест, и то мне, родной матери, неизвестно! Телефон какой-то странный дал и велел по нему только одно говорить, если я его увидеть захочу: когда отца дома не будет. Представляешь? И я говорю. Говорю!
Она поспешно, точно боясь передумать, набрала номер. Он оказался занятым, но Светлана упорно набирала его раз за разом, пока не прорвалась.
– Это кто, Толя? – голос ее сразу же сделался медоточивым. – Извиняюсь, это сын мне ваш телефон… Что? Да-да, Ларик, можно его позвать? Нельзя? А почему нельзя? А вы скажите, что мать просит. Все равно не может подойти? Ну, хорошо, хорошо, вы передайте тогда, что бабка его приехала, а нас с отцом весь вечер дома не будет. Не забудете? Значит, никого не…
Видимо, там положили трубку, потому что Светлана оборвала разговор. Глянула на старуху злыми глазами:
– Не может подойти, когда мать просит, видела?
Дочь говорила что-то, но старуха уже не слышала. Она вдруг как бы очнулась, когда заговорили о внуке, который где-то там учился, что ли, а тосковал по иконам, по чистоте и откровению, по спасению души своей, как она поняла со слов старой учительницы Марии Сергеевны.
– Ничего не признает и никакого уважения не имеет ни к старшим, ни к дому, ни к должности, – продолжала тем временем Светлана, и в самоуверенном тоне ее появились нотки не столько горькие, сколько растерянные. – А Ларька за ней как нитка за иголкой: Дашка да Дашка. А в Дашке, как говорится, ни кожи ни рожи: тоща да так вежлива, что прямо хоть вой. «Извините», «пожалуйста», «будьте так добры» – совсем мне парня испортила…
Не переставая ворчать, дочь распахнула шкаф и теперь металась от него к большому зеркалу и обратно, прикидывая то очередной костюмчик, то кофточку, то платье. А старуха и не пыталась вникнуть в дочкины ворчанья про внучка и неизвестную ей Дашку, но радовалась, потому что эта общая, женская, семейная, родственная неприятность сблизила их, как давно уж ничего не сближало. Дочь, занятая подбором вечернего наряда, перестала напускать на себя важность и значительность, стала по-бабьи жаловаться на сына и его новую подружку, превратившись в нормальную, в меру раздражительную, в меру усталую женщину, мать, жену и хозяйку. И старуха поняла, что все усиленные подчеркивания «вашей деревни» – все напускное, чужое, нахватанное. И поначалу старуху обрадовало, что эта городская пена, газировка эта не дала корней и ростков, но потом подумала, что и прежних-то, деревенских корней в ее Светлане нету более, и сильно огорчилась, потому что дочь представилась совсем уж перекати-полем, совсем уж вырванным из земли кустом, обреченным на гибель безо всякого проку. С дочери мысли ее перекинулись на зятя, на «самого», столь самозабвенно коловшего свиней, и в нем она тоже не нашла ни единого корешка, как у камня, не способного дать продление жизни, или выкорчеванного пня, обреченного на медленное гниение и распад. И только Ларик, внучек ее, представлялся укоренившимся, устойчивым, способным думать не об одних лишь удовольствиях и приморском отдыхе, но и о душе. И поэтому она очень ждала Ларика и немножко побаивалась какой-то Дарьи, за которой, по словам дочери, он ходил следом, как телок.
Но тут приехал «сам». Один: гость задерживался на работе, и за ним еще предстояло вернуться. Эдуард Леонтьевич был очень возбужден, непривычно суетлив и озабочен, что не помешало ему, однако, ворваться в кухню весьма агрессивно:
– А рацион? Режим? Откорм? Ты что, мамаша, стронулась-сдвинулась? Почему все бросила, на кого? Подумаешь, голова у нее кружится! У всех голова кружится, а мы, между прочим, работаем. И себя не щадим. Завтра же порошки получишь, и давай к свинкам. К свинкам, мамаша, к свинкам, не срывай мне процесс. Я, понимаешь, посильно помогаю выполнять Продовольственную программу, а ты дезертируешь с трудового фронта. Немедленно назад, поняла? Светлана, добудь все лекарства, проконсультируйся, с кем требуется, – и на вокзал. На вокзал, мамаша, на вокзал без промедлений и задержек. Животину, понимаешь, любить надо не на словах, а на деле. Так что в декабре, мамаша, увидимся, а поужинаешь сегодня одна. Ты уж не обижайся, сама понимаешь, какая у нас ситуация и какого ответственного товарища угощаем. Светлана, я вскорости заеду, чтоб готова была, как штык, понимаешь. А еще лучше, если к подъезду спустишься, чтоб такси зря не стояло. Лады?
Ринулся к дверям, а старуха – возьми да и спроси:
– А Ларик как же теперь?
– Что? – хозяин остановился. – Я в его возрасте, знаешь, дрова на станции грузил, а он с жиру бесится. А хозяин здесь я, понятно? И пока он прощения не попросит…
– А коли в деда он? – вздохнула бабка. – Которые в деда, такие не попросят.
– Ничего, и таких заставим. Экономически прижмем, чтоб и не пикнули, поняла, старая? И все, и не встревай в наши дела!
И умчался, дверь за собою защелкнув.
– Хлопотун, – сказала старуха; тон был нейтральным: понимай как хочешь. И добавила, помолчав: – Эдуард Леонтьевич свиней колоть большой спец. Приехала бы, поглядела.
– Это в декабре? Да ты что, мам, соображаешь? Последний месяц: творческие отчеты, научные дискуссии, встречи по интересам. Это же все организовать требуется, провести на должном уровне, а кто проведет? Светочка проведет: кого упросит, кого умаслит, а перед кем и глазками поиграет. Действует! Сразу: «Светочка, Светочка!..»
Светлана гордо посмеялась, тряхнув в меру подкрашенными, в меру подвитыми волосами, до сей поры еще пышными и красивыми. А старуха глянула удивленно: