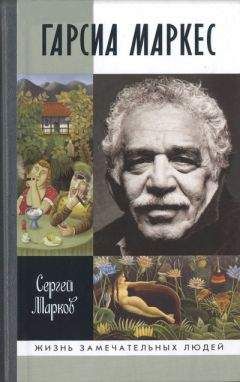Ужасное видение вновь пробудило во мне страх. И страх в тот момент придал мне сил. Я схватил обломок весла, сел и приготовился сразиться с этим или с каким-нибудь другим чудовищем, которое попытается перевернуть плот. Время близилось к пяти. Отличавшиеся неизменной точностью акулы уже чертили своими плавниками поверхность моря. Посмотрев на край плота, где я отмечал дни, я насчитал восемь черточек. Я сделал ключами новую царапинку, в полной уверенности, что она окажется последней, и меня охватили отчаяние и злоба при мысли о том, что умереть труднее, чем жить. В это утро я сделал выбор между жизнью и смертью. Я предпочел смерть, однако был по-прежнему жив, держал в руках обломок весла и собирался опять бороться за жизнь. За то единственное, что мне уже было не дорого.
И вот, страдая от палящего солнца, от отчаяния и жажды, которая впервые за время моих скитаний стала совершенно нестерпимой, я вдруг не поверил своим глазам: в середине плота лежал запутавшийся в концах сетки красный корешок, похожий на корень, который идет в Бойаке на изготовление красок и название которого я не помню. Бог знает, когда он попал на плот. За девять дней, проведенных в море, я ни разу не видел в воде никакой растительности. И тем не менее корень таинственным образом запутался в сетке и был еще одним признаком земли, которая все не показывалась и не показывалась.
В длину он составлял сантиметров тридцать. Изголодавшись, но уже не в силах думать о голоде, я позабыл про осторожность и откусил кусочек. У корня был вкус крови. Из него выделялся густой и сладковатый маслянистый сок, который освежал горло. Я решил, что он, наверное, ядовит, но продолжал есть, жадно глотая корешок, пока не расправился с ним.
Доев его, я, однако же, не испытал облегчения. Я вспомнил Священное Писание, и мне пришло в голову, что это своего рода оливковая ветвь, ведь когда Ной выпустил из ковчега голубку, она вернулась с оливковой ветвью, и это означало, что вода схлынула. Мне показалось, что корешок, которым я пытался заглушить девятидневный голод, подобен той оливковой ветви.
Можно было прождать в море целый год, но наступает такой день, когда вы больше не в силах выдержать ни часа. Накануне я надеялся встретить рассвет на суше. Миновали сутки, а вокруг по-прежнему простиралась водная гладь. Надежды мои растаяли. Шла девятая ночь моего пребывания в море.
«Девять ночей бдения по усопшему», – с содроганием подумал я, уверенный в том, что сейчас у нас дома, в Боготе, в районе Олайя, собрались все друзья моей семьи. Сегодня последняя ночь оплакивания покойника. Завтра разберут домашний алтарь и потихоньку начнут свыкаться с моей смертью.
До этой ночи во мне еще теплилась смутная надежда. Но, сообразив, что мои родные считают эту ночь девятой после моей смерти, последней ночью бдения по покойнику, я почувствовал себя всеми покинутым. Я подумал, что самым разумным было бы сейчас лечь и умереть. Я лег на дно плота и собрался было сказать вслух:
– Больше не встану!
Но слова застряли у меня в горле. Я вспомнил школу. Поднес к губам образок Девы Марии дель Кармен и начал мысленно читать молитвы, как, по всей вероятности, делали сейчас дома мои родные. И мне стало хорошо, ибо я понял, что умираю.
Глава 11
На десятый день еще одна галлюцинация – земля
Девятая ночь оказалась самой длинной из всех. Я лежал на плоту, и волны мягко плескались о борт. Я был не в себе. И каждая волна, стукавшаяся о плот возле моей головы, напоминала мне о катастрофе. Об умирающих говорят, что они «заново проживают свою жизнь». Нечто подобное случилось и со мной в ту ночь. Я снова лежал вместе с Рамоном Эррерой на корме эсминца, между холодильниками и электроплитами, и, заново проживая в бреду полдень двадцать восьмого февраля, видел Луиса Ренхифо, стоявшего на вахте. Всякий раз, когда волна плескалась о плот, я чувствовал, что коробки и ящики расползаются в стороны, я иду ко дну, а потом барахтаюсь, пытаясь выплыть на поверхность.
А после, минута за минутой, повторились дни тоски и одиночества, страданий от голода и жажды. Они мелькали отчетливо, как на киноэкране. Сначала я падаю. Потом мои товарищи кричат, барахтаются возле плота. Потом голод, жажда, акулы и мобильские воспоминания – все проходило длинной вереницей образов. Я пытался удержаться на палубе. Вновь оказывался на эсминце и привязывался, чтобы меня не смыло волной. Я привязывался так крепко, что у меня болели запястья, щиколотки и особенно правое колено. Но как бы крепко ни были затянуты веревки, набегавшая волна все равно утаскивала меня на дно моря. Очнувшись, я понимал, что выплываю на поверхность. Плыву, задыхаясь.
Два дня назад я раздумывал: не привязаться ли мне к плоту? Теперь это было необходимо, но я не мог найти в себе силы встать и нашарить концы веревочной сети. Я был невменяем. Впервые за девять дней я не осознавал своего положения. Если представить мое тогдашнее состояние, то надо считать просто чудом, что в ту ночь меня не смыло волной. Перевернись плот, и я, пожалуй, счел бы это очередной галлюцинацией. Решил бы, как неоднократно делал в ту ночь, что я вновь падаю с корабля, и моментально пошел бы на дно кормить акул, которые девять дней терпеливо дожидались за бортом своего часа.
Но в ту ночь меня опять хранила судьба. Я лежал в бреду, вспоминая минуту за минутой девять дней моего одиночества, но – как я теперь понимаю – рисковал не больше, чем если бы успел привязаться к плоту.
На рассвете подул холодный ветер. У меня поднялась температура. Я весь горел и дрожал, меня бил сильный озноб. Правое колено начало болеть. Из-за морской соли рана не кровоточила, но и не заживала, оставаясь такой же, как в первый день. Я все время старался не травмировать колено, но ту ночь я пролежал на животе, и колено, упиравшееся в дно плота, болезненно пульсировало. Теперь я уверен, что эта рана спасла мне жизнь. Поначалу боль была смутной и не встревожила меня. Потом постепенно пришло ощущение собственного тела. Я почувствовал, что холодный ветер обдувает мое разгоряченное жаром лицо. Сейчас я понимаю, что в течение нескольких часов нес какую-то ахинею, разговаривал с друзьями, ел мороженое с Мэри Эдресс в кафе, где оглушительно гремела музыка…
Прошло бог знает сколько времени, и я почувствовал, что голова у меня раскалывается. В висках стучало, кости ломило. К опухшему, ноющему колену невозможно было прикоснуться. Казалось, что оно болит у меня больше, гораздо больше всего остального тела, Я осознал, что нахожусь на плоту, уже на рассвете. Но сообразить, сколько времени я провалялся в бреду, не смог. Поднатужившись, я вспомнил, что на борту нацарапано девять черточек. Но когда я провел последнюю? Забыл… Мне казалось, что с той минуты, как я съел корешок, запутавшийся в сетке, прошла целая вечность. А может, корень мне приснился? Во рту у меня еще оставался его сладкий привкус, но, пытаясь вспомнить, что я ел за последние дни, я напрочь забывал про этот корень. Он не пошел мне впрок, я съел его целиком, но в желудке все равно было пусто.
Сколько дней прошло с тех пор? Я понимал, что сейчас утро, но не мог понять, сколько ночей пролежал пластом на дне плота, ожидая смерти, которая казалась мне еще более недосягаемой, чем земля. Небо заалело, словно на закате. И тут я вконец запутался. Я уже не понимал, утро сейчас или вечер.
Изнемогая от боли в колене, я попробовал изменить позу. Хотел перевернуться, но не смог. Я настолько обессилел, что мне казалось нереальным встать на ноги. Тогда я подтянул больную ногу, уперся руками в дно плота и, перевернувшись, плюхнулся на спину и положил голову на борт. Судя по всему, светало. Я взглянул на часы. Было четыре утра. В это время я обычно сидел на корме, вглядываясь в даль. Но теперь я потерял надежду увидеть землю. Я продолжал смотреть в небо, которое из ярко-красного становилось бледно-голубым. Воздух по-прежнему был холодным, меня знобило, а больное колено сильно дергало. Я чувствовал себя отвратительно оттого, что не смог умереть. Я обессилел, но был, вне всякого сомнения, жив. И при мысли об этом мне стало безумно тоскливо. Я считал, что мне не пережить ту ночь. И однако, все осталось по-прежнему! Я по-прежнему мучился на плоту и встречал новый день, очередной пустой день, не суливший ничего, кроме адского пекла и стаи акул, которая с пяти часов будет дежурить у плота.
Когда небо на горизонте заголубело, я огляделся. Со всех сторон меня окружало спокойное зеленое море, но впереди, в утренней дымке, я увидел длинную темную тень. На фоне прозрачного неба вырисовывались очертания кокосовых пальм.
Меня обуяла ярость. Накануне я был на пирушке в Мобиле. Потом видел гигантскую желтую черепаху, а ночью переносился из отчего дома в Боготе в колледж Ла Салье де Вильявисенсио, а оттуда – к товарищам по эсминцу. Теперь же я видел землю! Испытай я что-то подобное дня четыре-пять назад, я бы сошел с ума от радости. Я послал бы плот к чертовой матери и бросился бы в воду, мечтая побыстрее добраться до берега.