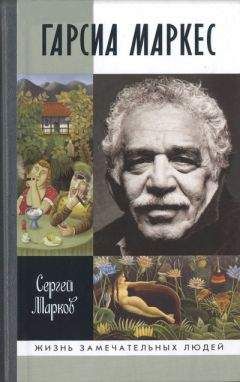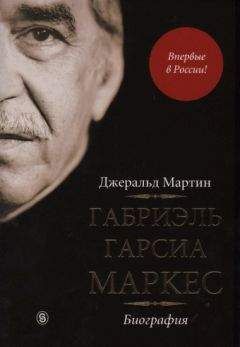– Ты о чем думаешь?
Я почувствовала, будто что-то вонзилось мне в сердце: незнакомый человек назвал меня на ты. Я поглядела вверх, на гигантский, сверкающий, точно стеклянный, купол декабрьского неба и сказала:
– О том, что было бы хорошо, если б пошел дождь.
В последнюю ночь, когда мы разговаривали на галерее, было жарче, чем обычно. Несколько дней спустя он совсем перестал ходить в парикмахерскую и заперся в своей комнате. Но в ту ночь на галерее, одну из самых знойных и душных на моей памяти, он проявил необычную для него общительность. Единственное, что казалось живым в горниле этой необъятной печи, – глухая вибрация цикад, взбудораженных великой сушью, и неявные, но тем не менее безудержные усердия розмарина и туберозы, не угасавшие в средоточии ночного одиночества. Некоторое время мы оба хранили молчание, обливаясь жирной и липкой жидкостью, которая не есть пот, но выходящая наружу слизь живой материи, тронутой разложением. Порой он поглядывал на звезды, на все опустошенное сиянием лета небо и не произносил ни звука, будто всецело отдаваясь течению этой фантастической ночи. Так в задумчивости мы сидели друг напротив друга, он на своем кожаном стуле, я в кресле-качалке. Вдруг в белой вспышке зарницы я увидел, как печально и одиноко склонил он голову к левому плечу. Я вспомнил о его жизни, о его одиночестве, его мучительном душевном разладе. Вспомнил, с какой угрюмой апатией взирает он на спектакль бытия. Прежде я считал, что меня к нему привязывают сложные, противоречивые и переменчивые, как сам он, чувства. Но тут вдруг я понял, что несомненно сердечно его полюбил. Мне казалось, что я наконец разгадал ту неведомую прежде силу, что с первого момента побудила меня взять его под свою защиту, и всеми порами ощутил тоску его душной и темной комнаты. Он сидел передо мной мрачный, разбитый, подавленный жизнью. Внезапно, когда он поднял свои желтые глаза, встретившись с его жестким пронзающим взглядом, я почувствовал, что напряженная пульсация ночи выдала тайну его глубинного запутанного одиночества. И, не успев подумать, зачем я это делаю, я спросил:
– Скажите мне, доктор, вы верите в Бога?
Он посмотрел на меня. Прядь волос падала ему на лоб, и весь он будто полыхал каким-то внутренним жаром, но на темном лице по-прежнему не отражалось ни эмоций, ни замешательства. Тягучий его голос жвачного животного не дрогнул, когда он промолвил:
– Впервые в жизни меня об этом спрашивают.
– А вы сами, доктор, когда-нибудь себя об этом спрашивали?
Он не выказал равнодушия или озабоченности. Но я чувствовал, что ни само мое присутствие, ни заданный мной вопрос и тем паче умысел, с которым он задан, его не волнуют.
– Трудно сказать, – ответил он.
– Но вы не испытываете трепета в такую ночь? У вас не возникает ощущения, что некий человек, намного больше и выше всех остальных людей, шагает по плантациям, и ничто не шелохнется вокруг, все живое и неживое замирает от его поступи?
Он молчал. Треск цикад заполнял пространство по ту сторону теплого и живого, почти человеческого запаха жасминника, посаженного в память о моей первой жене. Великан одиноко и величаво шествовал в ночи.
– Да нет, полковник, меня это не тревожит. – Казалось, теперь и он оторопел, как все вокруг, как воспаленные розмарин и тубероза. – Но меня тревожит… – сказал он и прямо, твердо посмотрел мне в глаза. – Меня тревожит, что кто-то на этом свете, вот вы, например, может с уверенностью заявлять, что знает о существовании человека, шагающего в ночи.
– Мы стараемся спасти душу, доктор. В этом разница. – И тут я зашел дальше, чем намеревался. Я сказал: – Вы не слышите его, потому что вы атеист.
Бесстрастно, невозмутимо он ответил:
– Поверьте мне, полковник, я не атеист. Но мысль о том, что Бог есть, тревожит меня ровно в той же степени, что мысль о том, что Бога нет. И посему я предпочитаю об этом вовсе не задумываться.
Не знаю почему, но у меня было предчувствие, что он именно так и ответит. «Это человек, обеспокоенный Богом», – подумал я, дослушав то, что он сказал будто бы нечаянно, но ясно и точно, словно вычитал эту фразу в книге. Тяжкая истома ночи дурманила. Мне чудилось, что в сердце у меня нескончаемое скопление пророческих образов.
За перилами в темноте угадывался цветник, разбитый Аделаидой и моей дочерью. Ежедневно они заботились о нем, чтобы по ночам его жаркие благоухания проникали в дом и способствовали спокойному глубокому сну. Жасминник посылал нам свой нежно-густой дух, и мы вдыхали его, он был ровесником Исабели и его запах являлся своего рода продолжением ее матери. Цикады стрекотали во дворе, среди кустов – после дождей мы забыли выполоть сорную траву. Но все было в общем-то как всегда. Невероятным и чудесным было лишь то, что напротив меня сидел он и своим огромным платком вытирал лоб, блестящий от пота.
После очередной паузы он сказал:
– Мне хотелось бы знать, полковник, почему вы задали мне этот вопрос?
– Вдруг пришло в голову, – ответил я. – Может, оттого, что уже семь лет снедаем желанием узнать, о чем думает такой человек, как вы.
Я тоже вытер пот. И продолжил:
– А может быть, беспокоит меня ваше одиночество.
Я ждал, но не дождался ответа. Он сидел напротив меня, по-прежнему угрюмый и одинокий. Я подумал о Макондо, о его жителях, жгущих пачки денег на праздник, отстое, палой листве, бесноватой и бессмысленной, ни во что не верящей, погрязшей в трясине своих низменных инстинктов, вожделении наслаждений. Я вспомнил его жизнь до того, как нахлынула палая листва, и его жизнь после, с дешевым одеколоном, начищенными старыми ботинками, сплетнями, которые преследовали его как тень, неведомая ему самому.
И я спросил его:
– Доктор, вы никогда не думали жениться?
Я не успел договорить, а он уже отвечал, но не прямо, а, по обыкновению, обиняком:
– Вы очень любите свою дочь, полковник, правда?
Я ответил, что это вполне естественно, и он продолжал:
– Хорошо. Но вы человек особого склада. Вам больше, чем кому бы то ни было, нравится самому забивать гвозди в своем доме. Я видел, как вы прилаживали дверные петли, хотя у вас работает много людей, которые могли бы это сделать вместо вас. Вам нравится это. Думаю, что ваше счастье состоит в том, чтобы ходить по дому с ящиком инструментов, ища, что бы такое еще починить. Вы способны быть признательным тому, кто ломал бы в вашем доме петли. Вы были бы ему даже благодарны за то, что он дарит вам счастье починки.
– Это привычка, – сказал я, не понимая, куда он клонит. – Говорят, что моя мать была такой же.
Он понимающе кивнул. Он гнул свою линию миролюбиво, но настойчиво.
– Очень хорошо, – сказал он. – Завидная привычка. И счастье к тому же наименее, по-моему, дорогостоящее из всех возможных. Вот поэтому у вас такой дом, поэтому вы вырастили такую дочь.
Я все еще не понимал, куда он клонит. Но, хоть и не понимал, спросил:
– А вы, доктор, никогда не думали о том, что было бы хорошо и вам иметь дочь?
– Мне – нет, полковник, – ответил он, улыбнулся, но тут же вновь посерьезнел. – Мои дети не были бы такими, как ваши.
Теперь во мне не оставалось сомнений: он говорил серьезно, и эта серьезность, эта ситуация казались мне ужасными. Я подумал: «Он достоин жалости из-за этого больше, чем из-за всего остального. Его стоит защищать».
– Вы слышали про Зверюгу? – спросил я его.
Он ответил, что нет. Тогда я сказал:
– Зверюга – это приходский священник, но кроме этого, он всем друг. Вы должны его знать.
– А, да, да – согласился он. – И у него тоже есть дети, ведь так?
– Я сейчас не об этом, – ответил я. – Люди любят его и выдумывают про Зверюгу всякую ерунду. Но вот вам пример, доктор. Зверюга вовсе не ханжа, не святоша. Он настоящий мужчина и исполняет свой долг, как положено мужчине.
Теперь он слушал внимательно, сосредоточенно. Взгляд его жестких желтых глаз был устремлен на меня.
– И это хорошо, не так ли? – сказал он.
– Полагаю, Зверюга будет святым, – сказал я. И сказал это искренне. – Никогда в Макондо мы не видели ничего подобного. Вначале он не вызвал почтения, потому что был местным, старики помнили, как он бегал с мальчишками ловить птиц. Он воевал, был полковником на войне, и поэтому возникла некоторая загвоздка. Вы понимаете, что народ уважает ветеранов не за то, за что уважает священнослужителей. Кроме того, мы не привыкли, чтобы нам читали «Бристольский альманах» вместо Евангелия.
Он улыбнулся. Должно быть, это показалось ему забавным, как и нам поначалу.
– Любопытно, – сказал он.
– Зверюга таков. Он предпочитает просвещать прихожан в области атмосферных явлений. Против бурь у него почти теологическое предубеждение. Каждое воскресенье он говорит о них. И поэтому его проповеди основываются не на Евангелии, а на предсказаниях погоды из «Бристольского альманаха».
Он улыбался, слушая с живостью и заметным удовольствием. Я тоже воодушевился и сказал: