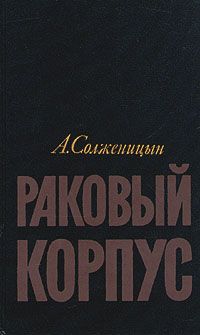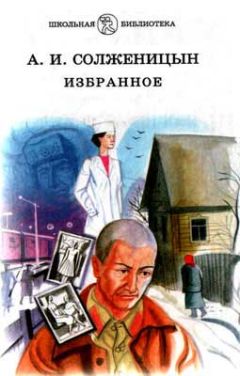– Вы не бойтесь, объясните, – успокаивал её. – Я как тот сознательный боец, который должен понимать боевую задачу, иначе он не воюет. Как это может быть, чтобы рентген разрушал опухоль, а остальных тканей не трогал?
Все чувства Веры Корнильевны ещё прежде глаз выражались в её отзывчивых лёгких губах. И колебание выразилось в них же.
(Что она могла ему рассказать об этой слепой артиллерии, с тем же удовольствием лупцующей по своим, как и по чужим?)
– Ох, не полагается… Ну, хорошо. Рентген, конечно, разрушает всё подряд. Только нормальные ткани быстро восстанавливаются, а опухолевые нет.
Правду ли, неправду ли сказала, но Костоглотову это понравилось.
– О! На таких условиях я играю. Спасибо. Теперь буду выздоравливать!
И, действительно, выздоравливал. Охотно ложился под рентген и во время сеанса ещё особо внушал клеткам опухоли, что они – разрушаются, что им – хана.
А то и вовсе думал под рентгеном о чём попало, даже дремал.
Сейчас вот он обошёл глазами многие висящие шланги и провода и хотел для себя объяснить, зачем их столько, и если есть тут охлаждение, то водяное или масляное. Но мысль его на этом не задержалась, и ничего он себе не объяснил.
Он думал, оказывается, о Вере Гангарт. Он думал, что вот такая милая женщина никогда не появится у них в Уш-Тереке. И все такие женщины обязательно замужем. Впрочем, помня этого мужа в скобках, он думал о ней вне этого мужа. Он думал, как приятно было бы поболтать с ней не мельком, а долго-долго, хоть бы вот походить по двору клиники. Иногда напугать её резкостью суждения – она забавно теряется. Милость её всякий раз светит в улыбке как солнышко, когда она только попадётся в коридоре навстречу или войдёт в палату. Она не по профессии добра, она просто добра. И – губы…
Трубка зудела с лёгким призвоном.
Он думал о Вере Гангарт, но думал и о Зое. Оказалось, что самое сильное впечатление от вчерашнего вечера, выплывшее и с утра, было от её дружно подобранных грудей, составлявших как бы полочку, почти горизонтальную. Во время вчерашней болтовни лежала на столе около них большая и довольно тяжёлая линейка для расчерчивания ведомостей – не фанерная линейка, а из струганой досочки. И весь вечер у Костоглотова был соблазн – взять эту линейку и положить на полочку её грудей – проверить: соскользнёт или не соскользнёт. Ему казалось, что – не соскользнёт.
Ещё он с благодарностью думал о том тяжёлом просвинцованном коврике, который кладут ему ниже живота. Этот коврик давил на него и радостно подтверждал: «Защищу, не бойся!»
А может быть, нет? А может, он недостаточно толст? А может, его не совсем аккуратно кладут?
Впрочем, за эти двенадцать дней Костоглотов не просто вернулся к жизни – к еде, движению и весёлому настроению. За эти двенадцать дней он вернулся и к ощущению, самому красному в жизни, но которое за последние месяцы в болях совсем потерял. И значит, свинец держал оборону!
А всё-таки надо было выскакивать из клиники, пока цел.
Он и не заметил, как прекратилось жужжание и стали остывать розовые нити. Вошла сестра, стала снимать с него щитки и простыни. Он спустил ноги с топчана и тут хорошо увидел на своём животе фиолетовые клетки и цифры.
– А как же мыться?
– Только с разрешения врачей.
– Удобненькое устройство. Так это что мне – на месяц заготовили?
Он пошёл к Донцовой. Та сидела в комнате короткофокусных аппаратов и смотрела на просвет большие рентгеновские плёнки. Оба аппарата были выключены, обе форточки открыты, и больше не было никого.
– Садитесь, – сказала Донцова сухо.
Он сел.
Она ещё продолжала сравнивать две рентгенограммы.
Хотя Костоглотов с ней и спорил, но всё это была его оборона против излишеств медицины, разработанных в инструкции. А сама Людмила Афанасьевна вызывала у него доверие – не только мужской решительностью, чёткими командами в темноте у экрана, и возрастом, и безусловной преданностью работе одной, но больше всего тем, как она с первого дня уверенно щупала контур опухоли и шла точно-точно по нему. О правильности прощупа ему говорила сама опухоль, которая тоже что-то чувствовала. Только больной может оценить, верно ли врач понимает опухоль пальцами. Донцова так щупала его опухоль, что ей и рентген был не нужен.
Отложив рентгенограммы и сняв очки, она сказала:
– Костоглотов. В вашей истории болезни существенный пробел. Нам нужна точная уверенность в природе вашей первичной опухоли. – Когда Донцова переходила на медицинскую речь, её манера говорить очень убыстрялась: длинные фразы и термины проскакивали одним дыханием. – То, что вы рассказываете об операции в позапрошлом году, и положение нынешнего метастаза сходятся к нашему диагнозу. Но всё-таки не исключаются и другие возможности. А это нам затрудняет лечение. Взять пробу сейчас из вашего метастаза, как вы понимаете, невозможно.
– Слава Богу. Я бы и не дал.
– Я всё-таки не понимаю – почему мы не можем получить стёкол с первичным препаратом. Вы-то сами вполне уверены, что гистологический анализ был?
– Да, уверен.
– Но почему в таком случае вам не объявили результата? – строчила она скороговоркой делового человека. О некоторых словах надо было догадываться.
А вот Костоглотов торопиться отвык:
– Результата? Такие у нас были бурные события, Людмила Афанасьевна, такая обстановочка, что, честное слово… Просто стыдно было о моей биопсии спрашивать. Тут головы летели. Да я и не понимал, зачем биопсия. – Костоглотов любил, разговаривая с врачами, употреблять их термины.
– Вы не понимали, конечно. Но врачи-то должны были понять, что этим не играют.
– Вра-чи?
Он посмотрел на сединку, которую она не прятала и не закрашивала, охватил собранное деловое выражение её несколько скуластого лица.
Как идёт жизнь, что вот сидит перед ним его соотечественница, современница и доброжелатель – и на общем их родном русском языке он не может объяснить ей самых простых вещей. Слишком издалека начинать надо, что ли. Или слишком рано оборвать.
– И врачи, Людмила Афанасьевна, ничего поделать не могли. Первый хирург, украинец, который назначил мне операцию и подготовил меня к ней, был взят на этап в самую ночь под операцию.
– И что же?
– Как что? Увезли.
– Но позвольте, когда его предупредили, он мог…
Костоглотов рассмеялся откровеннее.
– Об этапе никто не предупреждает, Людмила Афанасьевна. В том-то и смысл, чтобы выдернуть человека внезапно.
Донцова нахмурилась крупным лбом. Костоглотов говорил какую-то несообразицу.
– Но если у него был операционный больной?..
– Ха! Там принесли ещё почище меня. Один литовец проглотил алюминиевую ложку, столовую.
– Как это может быть?!
– Нарочно. Чтоб уйти из одиночки. Он же не знал, что хирурга увозят.
– Ну, а… потом? Ведь ваша опухоль быстро росла?
– Да, прямо-таки от утра до вечера, серьёзно… Потом дней через пять привезли с другого лагпункта другого хирурга, немца, Карла Фёдоровича. Во-от… Ну, он осмотрелся на новом месте и ещё через денёк сделал мне операцию. Но никаких этих слов: «злокачественная опухоль», «метастазы» – никто мне не говорил. Я их и не знал.
– Но биопсию он послал?
– Я тогда ничего не знал, никакой биопсии. Я лежал после операции, на мне – мешочки с песком. К концу недели стал учиться спускать ногу с кровати, стоять – вдруг собирают из лагеря ещё этап, человек семьсот, называется «бунтарей». И в этот этап попадает мой смирнейший Карл Фёдорович. Его взяли из жилого барака, не дали обойти больных последний раз.
– Дикость какая!
– Да это ещё не дикость. – Костоглотов оживился больше обычного. – Прибежал мой дружок, шепнул, что я тоже в списке на тот этап, начальница санчасти мадам Дубинская дала согласие. Дала согласие, зная, что я ходить не могу, что у меня швы не сняты, вот сволочь!.. Простите… Ну, я твёрдо решил: ехать в телячьих вагонах с неснятыми швами – загноится, это смерть. Сейчас за мной придут, скажу: стреляйте тут, на койке, никуда не поеду. Твёрдо! Но за мной не пришли. Не потому, что смиловалась мадам Дубинская, она ещё удивлялась, что меня не отправили. А разобрались в учётно-распределительной части: сроку мне оставалось меньше года. Но я отвлёкся… Так вот я подошёл к окну и смотрю. За штакетником больницы – линейка, метров двадцать от меня, и на неё уже готовых с вещами сгоняют на этап. Оттуда Карл Фёдорыч меня в окне увидал и кричит: «Костоглотов! Откройте форточку!» Ему надзор: «Замолчи, падло!» А он: «Костоглотов! Запомните! Это очень важно! Срез вашей опухоли я направил на гистологический анализ в Омск, на кафедру патанатомии, запомните!» Ну и… угнали их. Вот мои врачи, ваши предшественники. В чём они виноваты?
Костоглотов откинулся в стуле. Он разволновался. Его охватило воздухом той больницы, не этой.
Отбирая нужное от лишнего (в рассказах больных всегда много лишнего), Донцова вела своё: