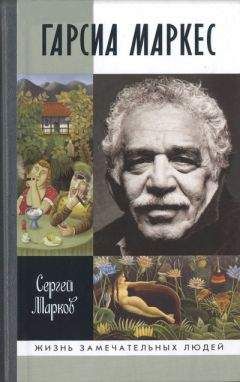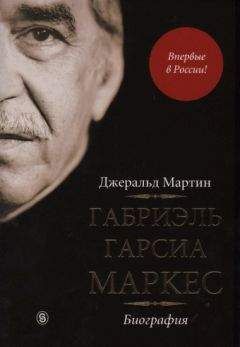– Не беспокойся об этом, – говорю я, снимая с его шеи бант. – Когда мы придем домой, примешь ванну и отдохнешь.
Я смотрю на отца, который говорит: «Катауре», зовя самого старого из индейцев, низкорослого, коренастого, курящего на кровати. Услыхав свое имя, тот поднимает голову и ищет лицо моего отца своими маленькими сумрачными глазками. Но едва отец снова подает голос, как из задней комнаты доносятся шаги и в спальню, пошатываясь, входит алькальд.
Сегодняшний полдень в нашем доме ужасен. Хотя известие о его смерти не было для меня неожиданностью, я давно был к этому готов, но не мог предположить, что в моем доме оно вызовет подобное смятение. Кто-то должен был сопровождать меня на похороны, и я думал, что это будет жена, тем более после моей болезни три года назад и того вечера, когда она, наводя порядок в ящиках моего стола, нашла палочку с серебряной ручкой и заводную балеринку. Про игрушку мы давно забыли. Но тем вечером мы опять запустили механизм, и балерина танцевала, как прежде, ожившая под музыку, некогда веселую, но от долгого молчания в столе сделавшуюся глуше и тоскливее. Аделаида смотрела на танцующую балеринку и вспоминала. Когда она обернулась ко мне, ее взор был затуманен и увлажнен легкой грустью.
– О чем ты вспоминаешь? – спросил я.
Я знал, о ком думает Аделаида, пока игрушка обволакивала нас своей печальной музыкой.
– Что с ним стало? – спросила моя супруга задумчиво, должно быть, взволнованная трепетом оживающего в памяти времени, вспоминая, как он появлялся на пороге комнаты в шесть часов вечера и подвешивал лампу к притолоке.
– Он в доме на углу, – сказал я. – На днях он умрет, и мы должны будем его похоронить.
Аделаида молчала, зачарованная танцем игрушки, и я почувствовал, что мне передалась ее ностальгия. Я сказал:
– Мне всегда хотелось узнать, с кем ты его спутала в тот день, когда он приехал. Ты накрыла стол, потому что приняла его за кого-то другого.
Аделаида ответила с тусклой улыбкой:
– Ты будешь смеяться, если я тебе скажу, за кого я его приняла, когда он стоял там, в углу, с балериной в руке. – И она показала пальцем в пустоту, где увидела его двадцать лет назад в крагах и одежде, похожей на военную форму.
Я решил, что в тот день они помирились в воспоминаниях, и потому сегодня велел ей надеть черное траурное платье и идти со мной. Но игрушка снова в ящике, музыка утратила свое магическое действие. Аделаида опустошена. Она мрачна, разбита и часами молится в своей комнате.
– Только тебе могло взбрести в голову затеять эти похороны, – ответила она. – После всех несчастий, которые на нас обрушились, не хватало лишь этого проклятого високосного года. После него остается только потоп.
Я пытался втолковать, что поручился за это дело своим честным словом.
– Не можем же мы отрицать, что я обязан ему жизнью.
Она ответила:
– Это он был нашим должником. Спасши тебе жизнь, он заплатил нам за то, что мы восемь лет давали ему ночлег, стол и чистое белье.
И она повернула свое кресло к перилам. Должно быть, она и сейчас сидит там, со взглядом, застланным обидой и суеверием. Ее движение было столь решительно, что мне захотелось ее утешить.
– Ну ладно, – сказал я, – в таком случае пойду с Исабель.
Она не ответила. Когда мы выходили, она сидела все в той же позе, и, желая доставить ей удовольствие, я сказал:
– Ступай в молельню и молись за нас, пока мы не вернемся.
Она повернула голову со словами:
– Не подумаю. Пока эта женщина ходит сюда по вторникам за веточкой мелиссы, мои молитвы бесполезны. – В ее голосе звучал угрюмый дерзкий вызов. – Не встану с места до Страшного суда. Разве что термиты раньше сожрут стул.
Услыхав знакомые шаги, приближающиеся из задней комнаты, отец останавливается с вытянутой шеей. Он забывает, что хотел сказать Катауре, и делает попытку повернуться кругом, опираясь на трость, но непослушная нога подводит, и он чуть не падает, как три года назад, когда рухнул ничком в лужу лимонада под грохот кувшина, покатившегося по полу, стук деревянных подошв, качалки и плач ребенка, который был единственным свидетелем его падения.
С тех пор он хромает, волочит ногу, переставшую сгибаться после недели жестоких страданий, от которых, мы боялись, он и не оправится. Теперь, глядя, как он восстанавливает равновесие, опираясь на руку алькальда, я думаю о том, что его почти бездействующая нога и есть тайная причина обязательств, которые он намерен выполнить даже вопреки воле селения.
Быть может, его благодарность именно оттуда. С тех самых дней, когда он рухнул на галерее и чувствовал себя, по его собственным словам, так, будто его спихнули с башни, оба последних оставшихся в Макондо доктора не сговариваясь дали нам совет начинать готовить его к доброй христианской кончине. Помню его на пятый день беспамятства, его тело, съеженное под простынями, истаявшее, как у Зверюги, которого год назад все жители Макондо в тесной и трогательной процессии провожали с цветами на кладбище. В гробу сквозь маску величественности проглядывала та же бесконечная неизбывная отрешенность, которую я видела на отцовском лице, когда он в забытьи рассказывал в спальне о странном воине, явившемся как-то ночью в войну 85-го года в лагерь полковника Аурелиано Буэндиа в шляпе и сапогах, украшенных мехом, зубами и когтями тигра. Его спросили: «Кто вы?», но он не ответил; его спросили: «Откуда вы?», но он опять не ответил; его спросили: «На чьей стороне вы сражаетесь?» – но не могли добиться ответа. Тогда ординарец схватил головню, поднес к лицу незнакомца, вгляделся и с возмущением вскричал: «Черт подери! Да это же герцог Мальборо!»
Во время этого кошмарного бреда доктора велели положить его в ванну. Так мы и сделали. Но на следующий день у него обнаружилось ухудшение, и тогда доктора ушли, сказав, что единственное, что можно посоветовать, – это приготовить больного к христианской кончине.
Спальня погрузилась в тишину, нарушаемую лишь размеренным покойным шорохом смерти. Этот затаенный шорох всегда слышен в спальнях умирающих, он резко отдает человеком. После того как падре Анхель соборовал его, прошло много часов, но никто не двигался с места. Мы глядели на заострившийся нос больного. Пробили часы, мачеха встала, чтобы дать ему лекарство. Мы приподняли его голову и старались разжать зубы, чтобы мачеха могла всунуть в рот ложку. И тут мы услыхали медленную твердую поступь на галерее. Мачеха не донесла ложку, перестала шептать молитву и обернулась к двери, внезапно побледнев.
– Я и в чистилище узнала бы эту поступь, – еле вымолвила она, и, обратившись к двери, мы увидели доктора.
Он стоял на пороге и глядел на нас.
Я говорю дочери: «Зверюга пригнал бы их сюда бичом», – и, направляясь к гробу, думаю: «С тех пор как доктор оставил наш дом, меня не покидало убеждение, что все наши действия определяются высшей властью, победить которую мы не в состоянии, пытаемся ли противиться ей с напряжением всех своих сил или же разделяем бесплодный бунт Аделаиды, затворившейся от всех в молитве».
Когда я, глядя на сидящих на кровати бесстрастных индейцев, одолеваю расстояние, отделяющее меня от гроба, мне кажется, что с первой струей воздуха, будто вскипающего над покойником, я вдыхаю всю горечь обреченности, которая разрушила Макондо. Надеюсь, алькальд не будет тянуть с разрешением на похороны. Я знаю, что снаружи, на томимых зноем улицах ожидают люди. Знаю, что женщины, жадные до зрелищ, припали к окнам, позабыв, что на огне кипит молоко и подгорает рис. И я уверен, что даже эта последняя бунтарская вспышка не по силам кучке выжатых и опустошенных людей. Их способность к борьбе подорвана днем выборов, тем воскресеньем, когда они всполошились, стали строить планы, но были разбиты и так и остались в иллюзиях, будто сами распоряжаются своими судьбами. И все это, казалось, было предопределено, выстроено с тем, чтобы направить события по пути, который медленно, но неотвратимо привел бы нас к нынешней среде.
Десять лет назад, когда нагрянуло разорение, общие усилия тех, кто стремился выкарабкаться, могли бы восстановить Макондо. Достаточно было выйти в поля, опустошенные банановой компанией, расчистить их от бурьяна и начать все сначала. Но человеческую палую листву отучили от труда и терпения, приучили не верить ни в прошлое, ни в будущее. Ее приучили жить лишь настоящим, утоляя в нем свою ненасытную прожорливость. Немного времени понадобилось нам, чтобы осознать: палая листва разлетелась, но без нее и возрождение уже невозможно. Палая листва все принесла нам и все унесла. После нее осталось лишь то воскресенье в руинах былого процветания и в последнюю ночь Макондо неизбежное слепое буйство дня выборов с четырьмя оплетенными бутылями водки, выставленными на площадь в распоряжение полиции и охраны.
Если даже в ту ночь Зверюга сумел остановить их, хотя жив был еще дух бунтарства, то сегодня-то он мог бы пройти по домам с бичом и согнать их на похороны этого человека. Священник держал их в железной узде. Даже когда он умер четыре года назад, за год до моей болезни, эта узда чувствовалась в том упоении, с каким люди опустошали свои клумбы и несли цветы на могилу, чтобы отдать Зверюге последний долг.