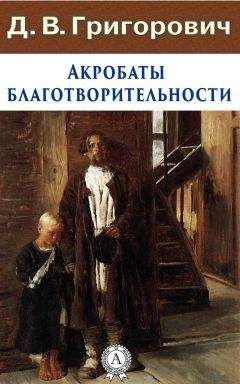Серьезному человеку, очевидно, не могло быть тут места; Иван Иваныч искал уже благовидного предлога, чтобы отказаться от звания члена, когда в первых числах июня председательница, госпожа Турманова, неожиданно собралась за границу; ближайшие ее помощники, секретарь и казначей, уехали уже прежде, оставив ей на руки кассу и книги. Не зная решительно, что делать с этим добром, г-жа Турманова передала его княгине-матери и, ничего не объяснив ей основательно, уехала в Баден-Баден, куда настоятельно призывали ее письма друзей.
Княгиня-мать, не зная также, что делать с добром общества, обратилась за советом к двоюродным сестре и брату, графу и графине Можайским.
Известие о неожиданном отъезде двоюродной племянницы и ближайших ее помощников, так легкомысленно бросивших вверенное им общество на произвол судьбы, привело графа в сильное негодование. Он объявил, что такой поступок неизбежно навлечет нарекание со стороны членов общества, – нарекание тем менее желательное, что коснется лиц высшего круга, – и когда же? – когда именно следует поддерживать этот круг в видах известного принципа. «Если к этому, – строго прибавила графиня, – милые друзья Зизи[7] и сама она что-нибудь напутали в делах этого общества, – предположение более чем вероятное, – и если кому-нибудь случайно попадется на глаза эта путаница…» – но графиня не докончила при виде испуга на лице двоюродной сестры; ей не хотелось также окончательно расстраивать брата, начинавшего с первых ее слов выказывать знаки возраставшего неудовольствия.
Решено было тут же послать курьера за Воскресенским. «Cest homme!» – воскликнул граф, мгновенно ободряясь. По его мнению, один Иван Иваныч мог дать совет, мог выручить, если б в самом деле эти ветрогоны что-нибудь напутали. Стоило передать Воскресенскому оставленные бумаги, попросить его просмотреть их, взять на себя во время отсутствия Зизи роль председателя, – не о чем было бы больше беспокоиться. Преданность его графу и графине известна; на знание дела и скромность также можно положиться.
Как только приехал Воскресенский и узнал, в чем дело, лицо его приняло печальное выражение; ему предлагали то именно, чему он давно не сочувствовал, от чего скромно желал удалиться; при виде его лица предчувствие чего-то недоброго невольно закралось в душу графа, и он не шутя встревожился. Просьба его стала еще настоятельнее; к нему присоединились графиня и двоюродная ее сестра, графиня Любич. Все трое принялись уговаривать, придавая просьбе характер личного одолжения. Решимость Ивана Иваныча поколебалась; он согласился. Ему тотчас же переданы были дела и деньги общества.
Первым его распоряжением было пригласить двух доверенных лиц – одного для временного исполнения должности бухгалтера, другого временно в должность секретаря; затем им было поручено ознакомиться подробно с делами.
В тот самый день, когда Иван Иваныч возвратился домой на дачу после приемного утра графа, он застал у себя этих двух лиц. Они сообщили, что в кассе общества открылся значительный недочет. Тут, очевидно, не было никакого злого умысла, никто деньгами, конечно, не воспользовался; всему быль виноват беспорядок в ведении дел, потому что такого сумбура, как тут, им никогда еще не приводилось видеть: казначей, какой-то г. Авениров, выдавая деньги, часто забывал их вписывать в расход; в книгах секретаря, барона Фук, – там, где требовалось вписывать журнал заседаний, – попадались пробелы на целых страницах; расписки, – там, где они встречались, – были большею частью без числа и номера; на многих значился расход, но не надписано было, за что были выданы деньги, – словом, путаница была совершеннейшая; в ней участвовали все решительно, начиная с самой председательницы и кончая последним членом комитета, г. Чиндаласовым, тем самым, который, не далее как нынешнею весною, сломал себе два ребра на царскосельских скачках. В конце концов, обнаружился тот факт, что в кассе невозможно было досчитаться трех тысяч.
Иван Иваныч ожидал этого; предчувствия его не обманули.
Дело главным образом неприятно было в том отношении, что оно могло огласиться, могло бросить тень, возбудить недоверие к ведению дел в других благотворительных обществах, находившихся под его управлением и покровительствуемых графом. Он решился ничего не говорить до поры до времени графу и графине, зная вперед, что оба подымут тревогу: немедленно напишут двоюродной племяннице; та ответит, напишет своим приятельницам; те разнесут весть и кончится все неблаговидной историей, к которой, пожалуй, приплетут и его имя. Он предпочел исправить дело домашним образом.
Когда, несколько дней спустя, граф осведомился о том, в каком положении дело, Иван Иваныч спокойно возразил, что пока ничего не нашел особенного, кроме некоторой путаницы.
– Убедительно прошу вас, Иван Иваныч, не выпускать дела из рук ваших, пока оно не будет приведено в строжайший порядок, сказал граф торопливо и озабоченно. – Прошу вас сделать это в личное для меня одолжение… Все мы будем вам благодарны!
Воскресенский, успевший уже составить себе план действий, поспешил успокоить Графа.
В числе различных предположений и проектов, сочиняемых Иваном Иванычем для пользы страждущего человечества, находился один, которому придавал он особенное значение. Многолетняя практика привела его к убеждению, что лучшим способом приобретать богатых жертвователей и щедрых членов для благотворительных обществ было бы дозволить этим обществам раздавать красивые серебряные и золотые значки или жетоны в виде кружков, или еще лучше звездочек с эмалевой надписью на одной стороне, а на другой – какой-нибудь интересной аллегорией, например, фигурой милосердия, держащей в правой руке рог изобилия, между тем как левая рука, не желая знать, что творить правая, усиленно прячется за спину. О ношении такого знака в петлице нечего было думать. Достаточно было бы прицеплять его к часовой цепочке или носить при себе в жилетном кармане и показывать при встрече знакомым: «Смотрите, дескать, что у меня есть, что я получил!..»
Лелея свою мысль и приберегая ее для важного случая, Иван Иваныч решился ею пожертвовать в пользу общества Спасительного влияния труда для преждевременно погибших. Он делал это скрепя сердце, движимый не столько врожденным великодушием, сколько желанием лишний раз доказать свою преданность графу и членам его семейства.
Выхлопотать позволение издать жетоны было не трудно; несравненно труднее было воспользоваться позволением в летнее время, когда в городе никого почти не было. Охотники до жетонов, конечно, не уйдут; придет зима, – они сами собою явятся; но пока все это в будущем; в настоящем требовалось сейчас же найти те три тысячи, которых недоставало в кассе. Откуда взять эти деньги? Как помочь горю? – «Можно», ответил без замедления находчивый ум Воскресенского. По его мнению, оставалось одно средство: заказать немедленно тысячу жетонов; каждый обойдется обществу, положим, в пять рублей. Но стоить призвать изведанного Блинова, переговорить с ним с глазу на глаз, – и отыщется ювелир, который, за почетное вознаграждение, согласится принять заказ, подпишет счет в пять тысяч, но, в сущности, исполнить его менее чем за половинную цену. Такие примеры уже неоднократно бывали. В результате получатся, следовательно, требуемый три тысячи. Придет зима, жетоны пустятся в оборот; общество не только возвратить себе истраченную сумму, но даже обогатится со временем.
Оставалось еще одно затруднение: собрать в июле месяце достаточное число членов общества, чтобы могло состояться заседание. Относительно того, чтобы получить согласие членов, Иван Иваныч не очень беспокоился; он считал всегда июль месяц самым удобным для проведения трудных вопросов; уже одно то, что члены собираются в небольшом количестве, в общем их настроении чувствуется всегда больше расположения к буколике и даже лени; споров, препирательств никогда почти не бывает; многие, обдаваемые потом, засыпают при начале дебатов; других соединяет одна общая мысль: как бы только скорее отделаться. Случалось иногда, что никто не приедет, и заседание не могло состояться; но в настоящем случае вряд ли можно было этого ожидать; все меры были заблаговременно приняты. Иван Иваныч, тем не менее, чувствовал томление под ложечкой и лицо его выражало озабоченность. Он ободрился, увидев несколько карет и дрожек у подъезда дома, где должно было происходить заседание. У входа в верную комнату он встретился с поджидавшим его Блиновым, протянул ему руку и, в то же время, бросил взгляд в соседнюю комнату, двери которой были открыты. Десятка полтора дам и мужчин, разделившись на группы, сидели н прогуливались по обеим сторонам длинного стола, покрытого синим сукном, с правильно разложенными на нем листами бумаги и карандашами; на дальнем конце доверенные лица Ивана Иваныча, исполнявшие должности секретаря и казначея, перебирали бумаги.