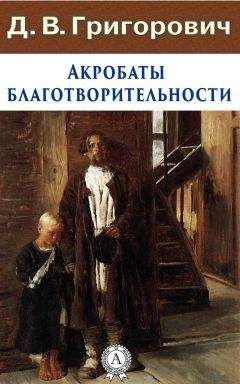– Знамо так; Филипп правду сказывает… Это точно как есть!.. – отозвались ближайшие мужики.
– Поди-ка столкуй с управителем, поговори ему, что он тебе скажет, – произнес Гаврило с сердцем, – уж было такое дело, из других вотчин приезжали, говорили ему, – с тем и уехали! Ты свое – он свое: «знать, говорит, ничего не хочу; мое дело, говорит, было бы прежде всего исправно!..» А что насчет работы, какую теперь справляем, – продолжал рассудительна Гаврило, – надо правду сказать – браниться да жаловаться не за что: поле не господское, «мирское»[1] – стало, все единственно, для себя трудимся!
– Главная причина, дядя Гаврило, – заговорил опять мужичок с веснушками: – не ко времени работа – вот что! Этим пуще всего народ обижается; у самих хлеб сыплется, а ты здесь валандайся; оно хоть и мирское дело – а свое все жалчее упустить.
– Потому и говоришь вам: братцы, велено! как ни бейся, сделать надо; работай дружнее, не тормози рук; здесь скоро отделаемся, за свое скорей примемся… Ну, дружней, ребята, подкашивай, подкашивай – к вечеру чтобы совсем убраться!.. – подхватил Гаврило, возвышая голос и принимаясь снова ходить по полю. – Эй вы, бабы, – полно вам бесперечь к люлькам бегать!.. Ох, эти бабы пуще всего!.. Авдотья, ты никак с самого обеда торчишь у люльки, ни одного снопа не связала… Брось, говорю!.. Эки, право, ни стыда в них нет, ни совести!..
Во время этих разговоров с той стороны, где деревня заслонялась пологими холмами, показался мужик. С первого взгляда легко было заметить, что он не принадлежал к числу обывателей Антоновки или если принадлежал, то по каким-нибудь обстоятельствам освобожден был от работы.
Длинные ноги его, обутые в довольно плохонькие сапоги, передвигались безо всякой поспешности; он рассеянно посматривал направо и налево, время от времени посвистывал и вообще имел вид человека, который лишен всяких забот и вышел в поле единственно затем только, чтобы прогуляться. Ему было лет под сорок; рубашка его начала просвечиваться на локтях, и швы во многих местах пообсеклись; но зато подпоясан он был новым гарусным шнурком и на голове его, покрытой реденькими черными завитками, красовался совершенно новый картуз с козырьком, вроде тех, какие носят подгородные мещане и фабричные. Сам он скорее похож был на мещанина, чем на обыкновенного поселянина; несмотря на знойное лето, загар едва коснулся его лица и шеи; на лице его, довольно еще красивом, не было следа тех морщин, той загрубелости, которые преждевременно накладывает тяжелое, трудовое житье. Взгляд его, обращавшийся как-то сверху вниз – точно он считал себя значительнее всех тех, с кем встречался, – не был лишен живости, точно так же, как и остальные черты лица; в движениях заметно, однако ж, проглядывали лень, вялость, сонливость.
Человек этот не был совершенно чужим и незнакомым лицом в здешних местах; едва поровнялся он с первыми косарями, многие его окликнули:
– Федот, здорово! Откуда?
– С люблинской мельницы…
– Дело, что ли, есть?
– Да, – лаконически отвечал Федот, слегка приподымая картуз и продолжая идти далее.
Замечательно, что в голосе каждого, кто обращался к Федоту, звучала веселость; каждый почти, заговаривая с ним, прищуривал глаза и осклаблял зубы. Случалось, что иной мужичок – особенно из молодых и которые были попроще, – видя, как осклаблялись другие, схватывался попросту за бока и громко начинал смеяться. В таких случаях Федот выше только подымал голову, весь как словно от макушки до пяток преисполнялся чувством собственного достоинства и шел мимо, сохраняя такой вид, как будто на пути попался муравей, не стоящий никакого внимания.
Приближаясь к месту, где сосредоточивалась главная деятельность и куда сошелся почти весь народ, Федот спросил, как бы найти ему дядю Карпа? Карп, оказалось, косил в числе передовых косарей и находился на дальнем конце поля. Федот медленно, как бы желая похвастать своей – неторопливостью, направился в указанную сторону. Проходя мимо подвод, которые приехали за снопами, мимо баб, вязавших снопы, и мужиков, шумевших косами, – Федот снова осведомился, где отыскать дедушку Карпа.
Признав, наконец, того, кого отыскивал, Федот встрепенулся и ускорил шаг; он словно вдруг вспомнил о чем-то; лицо его выразило озабоченность, суетливость; он пошел так скоро и начал так размахивать руками, что пот выступил на лице и даже шее; подойдя к Карпу, который продолжал усердно косить, не замечая приближающегося, Федот, и без того запыхавшийся, старался еще показать вид, что едва переводит дух от усталости.
– Дядя Карп, здорово! К тебе… – озабоченным тоном проговорил Федот, снимая картуз и отирая плоский белый лоб с прилипнувшими к нему жиденькими кудрями.
– А, Федот! – воскликнул седой как лунь старичок, быстро поворачивая к Федоту сухощавое лицо, изрытое глубокими морщинами, – как ты здесь?..
– К тебе, дядя Карп… Ух, умаялся! – дай дух переведу, – сказал Федот, стараясь показать вдвое больше усталости, чем было на самом деле. – Примерно такое дело… переговорить надо…
Тут Федот нахмурил брови, покосился на стороны и, заметив, что ближайшие мужики остановились и посматривали в его сторону, начал мигать Карпу на соседнюю ниву, где не было еще ни одного косаря.
– Говори здесь – все одно, – сказал старик.
– Нельзя, – суетливо перебил Федот, – никаким то есть манером… дело такое… Отойдем, говорю…
Он дернул старика за рукав рубахи и силою почти отвел его шагов за десять.
– Аксен Андреев прислал, – произнес он, быстро оглядываясь и как бы желая убедиться, что никто не слушает.
– Это зачем?
– Насчет избы; ты избу приторговал… Прислал: «скажи, говорит, Карпу – он тебе родственник, часто видаетесь, – скажи: задатку надо прибавить!..»
– Ведь я дал ему задаток, и дело совсем порешили; чего же еще? – произнес старик нетерпеливо.
– Говорит, много на избу охотников…
– Ну…
– Много очень народу избу торгуют и деньги сейчас отдают… «Коли, говорит, Карп прибавит задатку, я обожду, пожалуй, а то, говорит, несходно!» Я затем и пришел к тебе; ты, дядя, нонче же беспременно сходи к Аксену. Он так и наказывал: сегодня переговори с ним; дело, примерно, такое, никаким манером нельзя оставить! – примолвил рассудительным тоном Федот и даже зажмурил глаза. – Избу я видел: изба знатная; и цена небольшая… упустить никак невозможно!..
Старик не слушал последних слов Федота; с досадливым, беспокойным выражением лица смотрел он в землю.
– Когда видал ты Аксена? – спросил он.
– Нынче утром, в самый обед. Как сказал он об этом – «дело такое, думаю себе, упустить нельзя; Карп Иваныч сродственник, оставить не годится», – прямо к тебе бросился….
– Как же попал ты туда, к Аксену? – спросил Карп, медленно направляясь к прежнему своему месту.
– Встретились по соседству… Я теперь на люблинской мельнице… вот уже с неделю живу в работниках…
– Как! ты, стало, уж не на фабрике у Василья Иванова?
– Нет, рассчитался!.. Хозяева добре оченно уж зазнались… Мне здесь сходнее: хозяева – лучше быть нельзя, обходительные такие, и жалованья больше… в неделю три целковых получаю…
Карп недоверчиво покачал головою.
– Ей-богу, три целковых! – с живостью подхватил Федот.
– Ты никак на мельницах-то прежде не живал… – промолвил Карп рассеянно.
– Как не живал? – возразил Федот с уверенностью, – вот те раз! Перед тем как на фабрику поступил, только и работал, что на одних мельницах!.. дело привычное… все статьи примерно знаю; другой мельник того не сделает.
Хотя старик вполовину слушал Федота, но снова покачал головою.
Придя на свое место, он далеко не был так бодр и весел, как когда подошел к нему Федот; седые брови старика не оставляли нахмуренного положенья; несмотря на несколько минут отдыха, он дышал тяжелее, чем когда без устали размахивал косою.
– Подсоби, Федот, – сказал он, – подсоби маленько, чтоб упущения не было; я тем временем дойду до снохи, кваску выпью..
– Давай, давай!.. Нам не впервые! – бойко и с величайшей готовностью проговорил Федот. – Ступай, дядя, справимся!..
Федот выпрямился, молодецки поправил картуз, поплевал в ладони и взял косу.
– Никак подсобить хочешь?.. – произнес соседний мужик.
– Нам это дело в привычку! – хвастливо возразил Федот, – в наших местах – мы на Оке живем – луга такие: конца краю не видно, глазом не обведешь! Месяц целый косим: весь мир косит, а все остается верст на десять нескошенного места… так и оставляем… скот травит.
Сказав это, Федот снова поправил картуз, снова поплевал в ладонь и молодецки махнул косою; но луга косить, видно, не то, что рожь; под косою Федота жнивья осталось вдвое больше, чем следовало, и колосья, захваченные им, легли не в ряд, а раскидались на стороны. Два молодые парня, работавшие слева, громко засмеялись.
Федот повернулся к ним спиною и осмотрел косу.