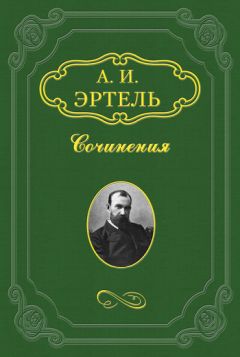Но самое ужасное для Золотушкина случилось в конце распекания, когда Наташа несколько остыла и потребовала, чтобы он показал ей ревизионную книгу. Прочитавши то, что там было написано, она с злою улыбкою обмакнула перо в чернильницу, провела густую черту под словами «онное не одобрел» и на том месте, где стояли три палочки с крючком, явственно подписала «Петр Зудотешин».
На следующий же день книга, старательно обернутая и запечатанная именной печатью Золотушкина, вместе с его доношением была препровождена в город, а ровно через месяц, под пасху, Наташа получила официальную бумагу, в которой ее уведомляли, что в звании попечительницы начального Межуевского училища она более не состоит.
Сначала она не хотела уступить, собиралась бороться до конца и во всех инстанциях: так ей казалась дика мысль о «неблагонадежности» ее поступков, о том, что восторжествует «Зудотешин», а не она, отдававшая свои средства, свой труд, всю свою душу на развитие настоящего «народного просвещения», без всяких тенденций в ту или другую сторону. Но вскоре после пасхи иные мысли и иные ощущения ею овладели: она почувствовала, что беременна, и отчасти по настоянию мужа и отца махнула рукою на школу, думая заняться этим впоследствии.
Тут же надо сказать, что и впоследствии ей ничего не удалось сделать, если не считать того, что она продолжала выдавать добавочное содержание о. Афанасию, но отняла у Золотушкина и прекратила столовую после того, как узнала, что учитель завел двух боровов, которых и откармливал в ущерб детским желудкам. За всем тем ребята выучивались «в пределах программы» и часть из них получала «свидетельства» на раззолоченной бумаге, а Золотушкин находился у «Зудотешина» на отличном счету… Потом тонкий слой ремесленной, «заученной» науки исчезал у ребят с неимоверной быстротою в вечном недосуге трудного, беспросветного, почти проблематического существования, и те из них, что получили раззолоченную бумагу, через два-три года не могли разобрать, что в ней написано… «Квод де-мострандум эст!» – с прискорбной успешной говаривал о. Афанасий, изредка встречаясь с Наташей и излагая ей печальные результаты «зудотешинского» обучения. Но Наташе было уже тогда не до того…
Родился у Струковых мальчик, названный в честь деда Петром. «Смотри, Наташечка, да не будет он Петр Зудотешин», – хихикая говорил Перелыгин, вспоминая эпизод с ревизионной книгой… И вот Наташа утешала себя тем, что для того, чтобы он действительно не оказался «Петром», ей необходимо быть хорошей матерью, а не попечительницею школы. В жизни Струковых наступила новая полоса. В их доме возникло особое настроение, от которого тепло и отрадно было Алексею Васильевичу, все более и более тяготившемуся деятельностью судьи и вообще всем, что металось в глаза за стенами дома. Как восхитительно летели для него часы, когда в зимний непогожий вечер с веселым треском горели дрова в камине, мягко светила лампа, он просматривал дела, назначенные к очереди, Петр Евсеич читал, а молодая мать сидела около них о ребенком у груди и с таким умиротворенным и кротким лицом, как будто вполне осуществились бурные и неопределенные домогательства ее юности. Иногда между мужем и отцом завязывался спор, – не о России, как в Лондоне: Алексей Васильевич избегал теперь спорить о России, – а опять-таки о жизни, о морали, о судьбах человечества. И надо было видеть, с каким чувством спокойного превосходства Наташа слушала их, с какой лукавой и нежной улыбкой заглядывала в детские глазки, в молочном тумане которых уже начинало мелькать сознание… «Говорите, говорите, – казалось, думала она, – вот мы с Петрусем лучше знаем и о жизни и о морали!» А за стенами злилась вьюга, торжественно шумели деревья в роще.
Струков потому избегал спорить о России с Петром Евсеичем, что почти соглашался теперь с ним и не хотел обнаруживать этого при Наташе. Ее увлечение деревней, школой, чтениями радовало его и только изредка приводило в досаду тем, что расстраивало их домашний порядок, но радовало не за деревню и не за школу, а за жену, нашедшую то, о чем они вместе мечтали за границей. В своей камере, в своих наблюдениях, гораздо более широких, чем у Наташи, над «обществом и народом», он далеко не нашел того, о чем они вместе мечтали, но избегал говорить об этом при жене из какой-то смутной боязни. В глубине души ему казалось, что пропадут мечты и что-то оборвется между ним и Наташей и что лучше молчать…
А как трудно, как было мучительно думать и отчаиваться в одиночку!
Прежде всего мучило внутреннее раздвоение. Так, он давно уже составил себе убеждение, что «праведность» и «преступность» определяются экономическими нормами и что чем более равновесия в этих нормах, тем решительнее упраздняется «преступность». Дальше он был убежден, что самое понятие «преступности» отнюдь не безусловно и только отражает собою ту имущественную структуру, которая господствует в данное время и в данном общежитии. И так еще разительнее в нарушениях гражданского права… А между тем являлся кабатчик Юнусов с целым ворохом несомненно злодейских, но юридически правильных обязательств и на основании таких-то статей просил подвергнуть немедленному ограблению государственных крестьян села Излегощей. В голове судьи соблазнительно мелькала такого рода резолюция: «По указу… приговорил: мещанина Юнусова за мошенническое приспособление к законам и за превратные мысли о том, что якобы на то в море и щука, чтобы карась не дремал, и за умышленную пропаганду таковых превратных мыслей выселить из села Излегощей на остров Сахалин; расписки отобрать и сжечь; казенный участок, арендуемый Юнусовым, передать крестьянам; открыть в селе дешевое кредитное учреждение; устроить школы с изъятием их от тлетворных наездов г. Зудотешина»… А на самом деле приходилось писать совсем другое, и хотя в «предварительном исполнении» отказывалось, но все же в установленный срок в Излегощи приезжал судебный пристав и производил законный разгром.
Потом купец Ржанов взыскивал за порубку в лесу, купец Шехобалов за покражу солонины из амбара, помещик Кульнев за «неотработки» и за потраву, – и было ясно как дважды два, что и в порубке, и в краже, и тем более в «неотработках» и потраве подсудимые кругом виноваты, и что надо их штрафовать, сажать в острог, подвергать неустойкам… Таких дел было слишком много, и нельзя достаточно выразить, как страдал от них Алексей Васильевич.
Правда, было и некоторое утешение. Недаром народ предпочитал «мирового» не только старой ябеде и волоките, но и своим волостным судам. Веяние духа, поколебавшее в эпоху реформ обомшелые твердыни крепостничества, внесло и в сферу юстиции нечто от безусловной правды. Даже и по букве новых законов человек рассматривался как человек, а не как мужик Степка с одной стороны, а многоуважаемый землевладелец Степан Иванович с другой. Нужды нет, что в действительности последнему и теперь случалось колачивать первого но зубам, ругать как вздумается и вообще обременять обидами. По крайней мере, перед лицом закона «Степка» мог до некоторой степени восчувствовать свое человеческое естество и убедиться, что звание смерда не есть его прирожденное отличие. И Струков с особой последовательностью применял здесь свои полномочия – с особенным удовольствием приговаривал Юнусова под арест за избиение крестьянской бабы, купца Ржанова за расправу нагайкой с порубщиками и приказывал выводить из камеры помещика Кульнева, осмелившегося в его присутствии обругать непечатными словами своих неисправных рабочих.
В сущности, мировой суд был одним из тех «компромиссов», которыми, по убеждению Струкова, только и могло двигаться вперед какое бы то ни было общежитие. Так… Но, во-первых, этот «компромисс» со дня на день обессиливался тою опалою, в которой находился, а во-вторых, то, что казалось благоразумным и благодетельным со стороны, было почти нестерпимо при личном участии. Необходимо и хорошо есть мясо, думал Алексей Васильевич, и история Ирландии, конечно, не от того печальна, что там католичество, а от того, что ирландцы питаются картофелем; но противно убивать животное, и если нельзя не убивать самому, так не лучше ли совсем отказаться от мяса? Другими словами, он по-прежнему понимал, что не только нельзя, но было бы бедствием внезапно отменить тюрьмы, векселя, исполнительные листы, – всю эту жестокую арматуру действующего права; но, с другой стороны, ему становилось все больнее и противнее применять эту арматуру, несмотря даже на то, что иногда она применялась в защиту униженных и слабых.
И он все чаще подумывал об иных «компромиссах», более подходящих к его характеру и симпатиям, чем судейство, но подумывал уже не с прежней мечтательностью, а сомневаясь и робея… Дело в том, что русская жизнь, как она есть, раскрывалась перед ним совсем в ином порядке, нежели прежде, в Лондоне, сквозь призму книг, теорий, студенческих воспоминаний и – главное – сквозь призму любви к Наташе. Чем он пристальнее всматривался теперь в эту жизнь, – в камере, в Межуеве, в уезде, во всей России, – тем страшнее ему становилось… Он начинал прозревать. Уезжая за границу, он унес с собой такое впечатление, что вместо капризной весны с зарницами, заморозками и грозою в отечестве наступает лето, – страда, трезвая, сухая работа, – быть может, без иллюзий, но с серьезным содержанием, с деловым развитием тех «весенних» начал, что уже доказали историческую свою необходимость. И он радовался этому. Искренне сердился на угрюмых пророков; не мог читать Щедрина; разошелся с «крайними»; с удовольствием вспоминал, сколько оставил молодых, искренних, знающих людей, подобно ему утомленных зрелищем ужасов и бесплодным нервическим возбуждением, мечтающих о серьезной ученой карьере, о культурной деятельности в провинции, о бескорыстной помощи всем начинаниям, направленным ко благу и долгоденствию отечества.